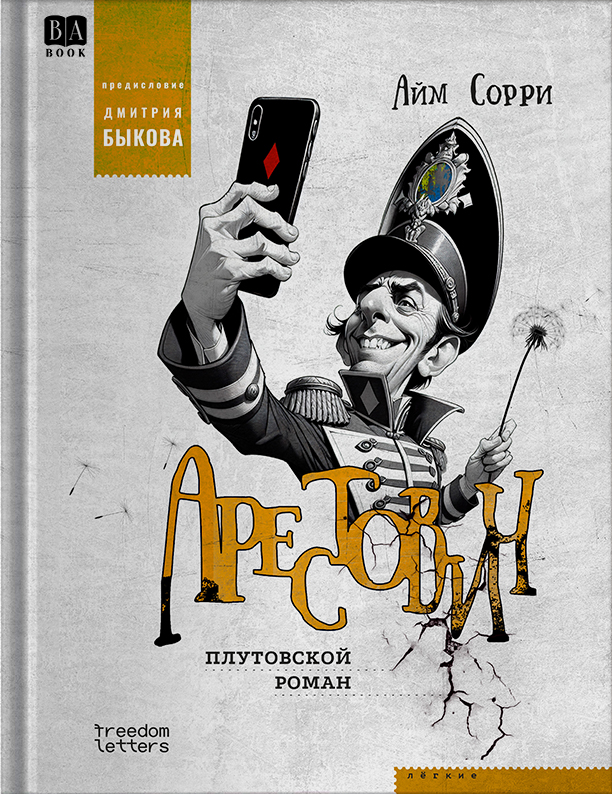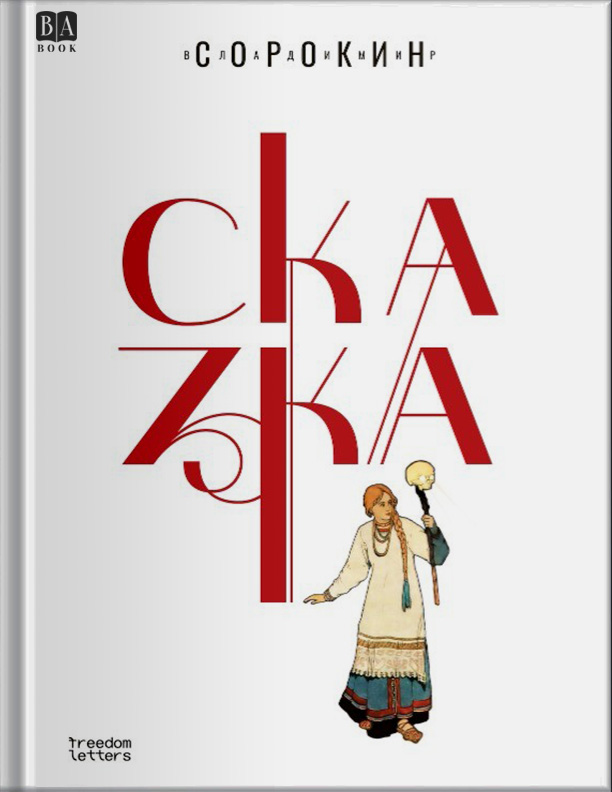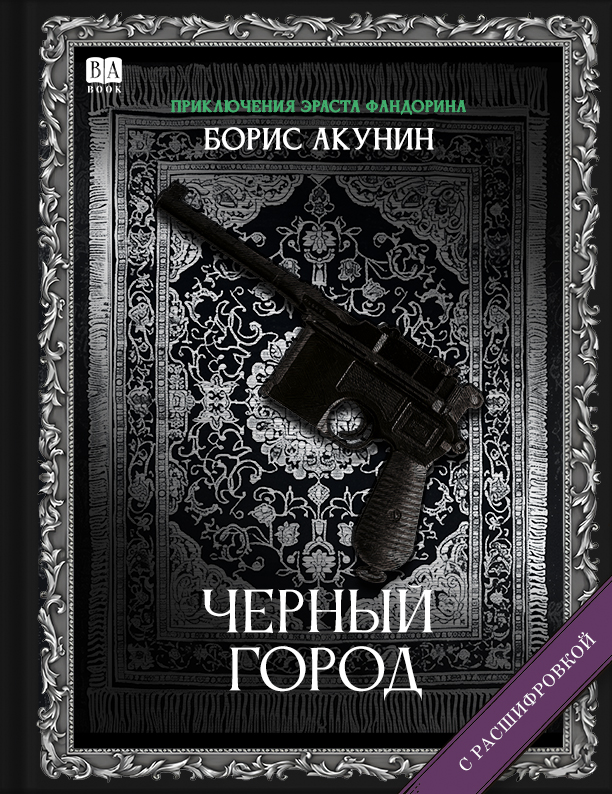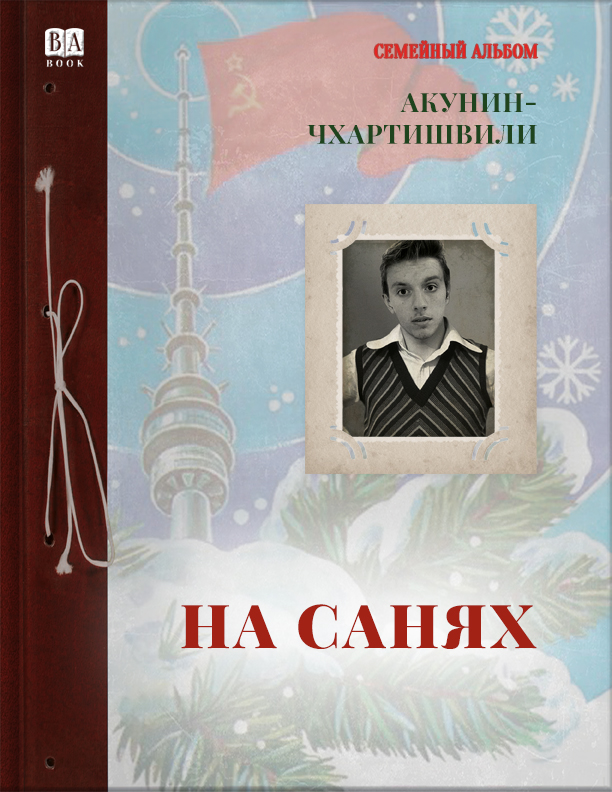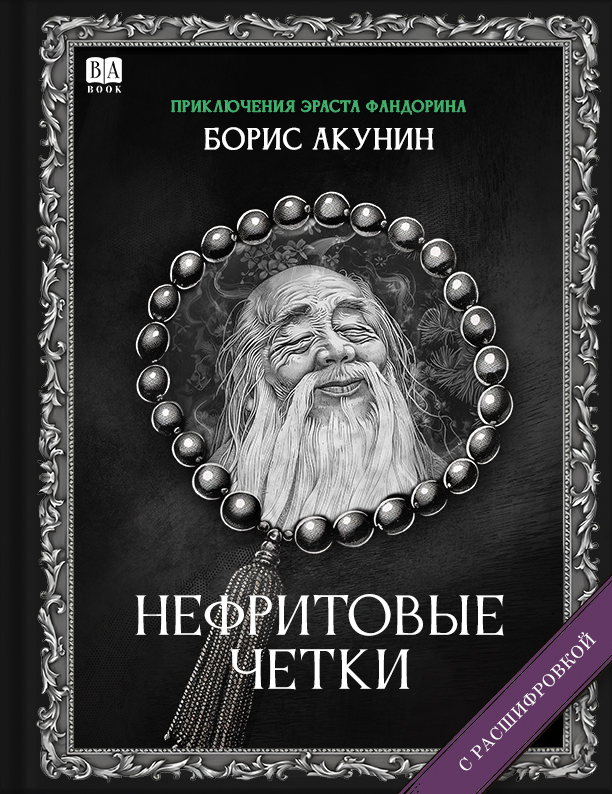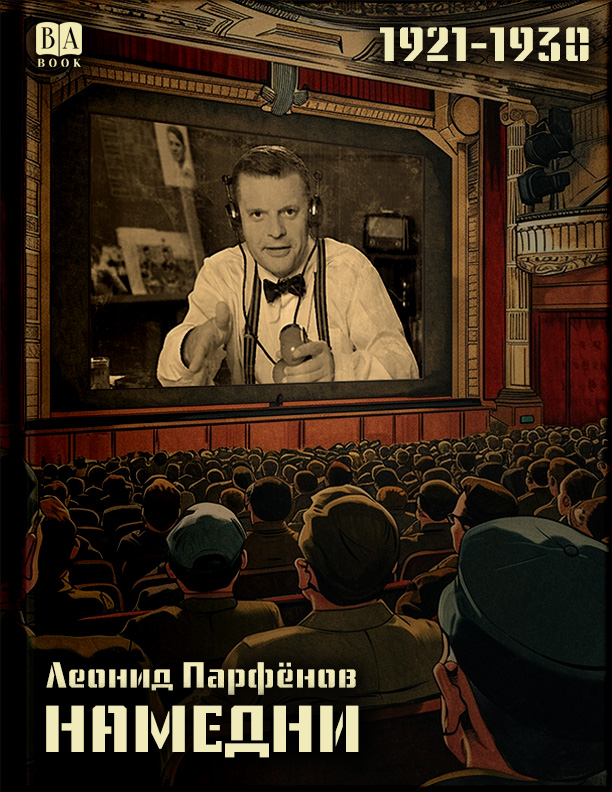ПЕРЕПИСЫВАЕМСЯ С СЕРГЕЕМ ГАНДЛЕВСКИМ
У нас начинает выходить собрание сочинений Сергея Марковича Гандлевского, творчество которого я очень высоко ценю. Четыре сборника: стихи, проза, эссеистика, заметки о литературе.
Сегодня – первый.

https://babook.org/store/306-ebook
Мы с С.Г. давние-предавние приятели. И в этом году четыре месяца предавались старинному писательскому занятию – вели переписку. У меня уже много лет правило: если в жизни всё запуталось и надо разобраться – затевай переписку с умным литератором. Человек, по роду деятельности конвертирующий чувства в слова, поможет и тебе самому понять и сформулировать важное, если в одиночку не получается. Эпистолизация Хаоса – так это у меня называется.
В свое время я вел такую переписку – не бытовую, а литературную – с Львом Рубинштейном, Михаилом Шишкиным, Людмилой Улицкой, Дмитрием Быковым. Что-то было опубликовано, что-то – нет.
Поделю наши письма с С.Г. на четыре части: июнь, июль, август, сентябрь. Личное и бытовое мы из текста убрали, оставили лишь то, что может представлять интерес для читателей.
Итак.
ИЮНЬ
Г.Ч.
Дорогой Сережа,
Много лет мы жили в одном городе и часто виделись. Теперь мы – все мы – разбросаны обстоятельствами (назовем их сдержанно так) по разным странам, причем в возрасте, когда вообще-то пора уже завязывать с переселениями. Но, как пелось в старой песне, «старость меня дома не застанет». И она нас дома не застала.
Наверное, это и хорошо, говорю я себе. Еще одна жизнь, вдобавок ко всем, прожитым раньше, - разве это плохо? Особенно, если российская жизнь все равно в руинах и возвращаться некуда.
Все мы, родившиеся в 1950-е годы в стране со странным названием и досуществовавшие до сего дня, прожили по несколько жизней. Вот я начинаю считать – получается шесть. И все очень разные.
- Шестидесятые. Советский мальчик, радовавшийся, что родился в лучшей стране на свете.
- Семидесятые – середина восьмидесятых. Подросток-юноша-молодой циник, ничему не веривший и ни на что не надеявшийся, проклинавший судьбу за то, что запихнула его в это мусорное ведро (слово «совок» тогда еще не вошло в употребление).
- Конец восьмидесятых и девяностые это когда мы с тобой познакомились). Переводчик-критик-редактор, окрыленный тем, что раньше всё было нельзя, а теперь всё стало можно.
- Двухтысячные. Автор масслита, персонаж глянцевых журналов (долгое время подозревавший, что всё это происходит не со мной).
- 2008 – 2014. Непассионарный протестант - не потому что рвался в политику, а потому что в России стало сильно примораживать.
- 2014 -2024. Экспат-эмигрант-британский гражданин.
А делишь ли свои семьдесят с хвостиком лет на отдельные жизни ты? И если да, то по какому признаку? И что такое для тебя твоя нынешняя грузинская жизнь? Что ты приобрел, что понял, что в себе или для себя открыл?
С.Г.
Дорогой Гриша, попробуем поговорить. Но сначала надо дать себе отчет: разговор этот с глазу на глаз или на публику. И не потому, что мы двуличные, и на людях говорим одно, а наедине – другое, вовсе нет. Просто мы-то с тобой знакомы тридцать с хвостиком лет, и можем, говоря о своих удачах и неудачах, не оговариваться всякий раз, что испытываем понятную неловкость, радуясь или жалуясь, в виду исторического бедствия, которому мы свидетели. Это как-то подразумевается по умолчанию. Впрочем, может быть, сказанного достаточно.
Приступим.
Я, Гриша, не такой упорядоченный человек, как ты, но готов последовать твоему примеру и разбить свою жизнь на этапы. Мне проще это сделать по кругам общения.
Первый этап – родительский дом вплоть до поступления в университет. Семья, грех жаловаться, была хорошая: родители не только кормили и одевали, но и умные разговоры говорили, приучили к чтению, брали с собой в свой единственный в году отпуск.
Второй этап – первые пробы пера, круг друзей университетской поры и после, по большей части поэтические дружбы – «Московское время», условно говоря. Учеба через пень-колоду, разъезды по стране в качестве разнорабочего всевозможных экспедиций, довольно-таки богемный образ жизни, а образ мыслей – вполне крамольный.
Третий этап был ознаменован самыми решительным изменениями в самых разных областях жизни:
я обзавелся собственной семьей;
стремительно рухнул постылый советский режим;
из-за эмиграции 70-80-х гг сильно поредел изначальный дружеский круг, но меня принял другой – завсегдатаи еженедельных сборищ семейства Айзенберг (куда и вы с Эрикой были вхожи);
я стал «легитимным» писателем, что, впрочем, не избавляло от необходимости служить;
разъезды продолжались, но уже не в качестве экспедиционного рабочего, а как литератора, и не только внутри страны, но и по миру.
Но потом, как бывает в кошмарном сне, «чудище обло озорно» и т. п, от которого с таким облегчением было избавились, выросло перед нами и чем дальше, тем больше стало заслонять белый свет.
А потом случилась война – и вот я уже два года как беженец.
Причин отъезда несколько.
Первая. По довольно общему правилу, человеческая жизнь до каких-то пор разрастается вширь, а потом понемногу сужается и замыкается в кругу семьи. Война поставила под вопрос саму возможность и дальше жить сообща с домашними, а то и беспрепятственно видеться с ними.
Теперь признание, более уместное на кушетке психотерапевта. С началом войны я узнал про себя, что мне проще соотносить себя с потерпевшими, а беженец как-никак потерпевший. Это действительно чистой воды психоз, потому что головой-то я понимаю, что оставшиеся люди нашего дружеского круга такие же потерпевшие, если не больше, потому что находятся в большей опасности! И тем не менее.
И еще. Последние несколько лет, особенно после карантина, я привык жить на даче, и ежедневное общение ограничивалось, главным образом, соседями, с которыми у меня вполне добрые отношения, в смысле одолжить ножовку или подтолкнуть увязшую в снегу машину, ну и, само собой, переброситься словом-другим. Боже мой, что эти добрые люди несли! Мне все трудней становилось даже мимоходом иметь дело с ними, хотя я понимал, что над ними славно потрудилось ТВ.
Здесь в Грузии в народе куда больший разброс мнений, нет того чудовищного единодушия, что было в Москве в 2022 году. А главное, за два года мне не встретился ни один сторонник войны.
И наконец. Скорей всего, оппозиционером меня сделала сословная принадлежность (надеюсь, что в этом есть какая-то доля и моего свободного выбора). То есть, получилось, что немалая часть душевной энергии ушла на сопротивление тоталитарной идеологии и культуре – и это длилось десятилетиями. Помню, как в компании в 80-е годы кто-то сказал, мол, не сменить ли тему, хватит уже о советской власти. А хозяин ему возразил: а о чем же еще!? – и был по-своему прав: этот режим, как газ, проникал повсюду.
Потом, в 90-е вдруг, казалось, наступила недолгая передышка от «общественной нагрузки» сопротивления. Гуманитарии, во всяком случае, почувствовали себя вправе заниматься своим прямым делом: историей, лингвистикой, педагогикой и т. п. и не говорить под руку профессионалам-реформаторам. (Сейчас-то я думаю, что из-за неопытности и неумения обращаться со свободой это неучастие было нашей почти общей большой ошибкой. Надо было стоять у власти над душой, говорить ей под руку и быть в каждой бочке затычкой со своими интеллигентскими представлениями о хорошо и плохо, возможно тогда дело и не дошло бы до нынешнего одичания и мрака.)
Но это все теперь уже, как говорится, мудовые рыдания.
В феврале 2022 года я спросил себя:
- Ну, что сыграем напоследок еще одну партейку во внутреннюю эмиграцию? (А мне уже рукой подать до Могилевской губернии, как говорит моя теща.)
- Нет, не сыграем, - ответил я и переселился в Грузию.
Занятно, что я несколько раз за последние лет десять говорил разным людям, что из виденных мной городов больше всего мне по душе Петербург, Нью-Йорк и Тбилиси, но жить я хотел бы в Тбилиси. И как в воду глядел.
Теперь, Гриша, твоя очередь рассказывать, чем ты руководствуешься в нынешней жизни. Ты ведь, если я не заблуждаюсь на твой счет, не можешь жить просто так, как трава растет.
Г.Ч.
Чем я руководствуюсь в своей нынешней, шестой жизни?
Тем, что сам себе натеоретизировал. И во что старательно пытаюсь верить. Что вся жизнь, до самого последнего дня – лестница, которая обязательно должна вести вверх, и стало быть с каждой следующей ступеньки теоретически должны открываться всё более интересные виды. Что старость – самая лучшая пора жизни, если уметь с нею обращаться, то есть фиксироваться не на том, что теряешь, а на том, от чего избавляешься; не на утратах, а на приобретениях. И приобретения безусловно есть. Может быть, мы с тобой об этом еще поговорим – это ведь самое значительное, что лично с нами происходит на нынешней стадии существования, правда?
Я, конечно, отдаю себе отчет, что подобный, как сказали бы Шишков с Солженицыным, аппроуч отдает бодрячеством, но мне кажется, что достойнее бодриться, чем предаваться жалости к себе.
А кроме того у меня есть пример матери. Однажды, уже на исходе, я спросил, в какую пору жизни она чувствовала себя самой счастливой. «Сейчас, после восьмидесяти», - сразу ответила она. И действительно, у нее всегда был довольно тяжелый характер, а в последние годы она стала просто ангелом. Она и умерла очень красиво, ты эту историю помнишь. Я это к тому, что даже уход из жизни может быть драгоценным даром – и последней ступенькой вверх, на другой этаж.
Однако давай про что-нибудь менее грустное.
Например, про собак.
Ты ведь всю жизнь просуществовал в компании ушастых, правда? Некоторых я имел удовольствие знать лично. Одною был даже цапнут. Мне кажется, на твоем месте я делил бы свою жизнь на «собачьи эпохи»: «Эпоха Чарлика», «Эпоха Бени» – как в истории литературы были «Эпоха Пушкина» или «Эпоха Чехова». Давай всех твоих питомцев вспомним. Даром что ли они были собаками писателя? У них есть шанс попасть в собрание сочинений, в том «Письма».
Сколько барбосов вместила жизнь Сергея Марковича Гандлевского?
С.Г.
Буду, дорогой Гриша, отвечать против хода твоего письма.
Да, идея построить повествование от собаки к собаке обаятельна, но Довлатов уже откомментировал содержимое своего чемодана, а Вайль рассказал о себе, ориентируясь по «стихам о себе». Надо и честь знать.
Про человечный уход твоей мамы я знаю, повезло тебе. Но и ей с тобой повезло. Когда мы с Леной по вашей с Эрикой просьбе встречали Б. И. в аэропорту и спросили, как ей Париж, она радостно ответила: «Что Париж!? Каков мой Гриша!»
А вот я, как, наверное, и множество людей, не успел отблагодарить родителей, и меня это временами гложет.
В самом конце 1980-х я делил гостиничный номер в Набережных челнах с Василием Илларионовичем Селюниным. (Началась перестройка, и «Новый мир» отправил в этот индустриальный город своих «зеленых» авторов, хотя Селюнину я дал бы на вид не меньше шестидесяти.) Он был очень хорошим человеком. Уж не знаю зачем, я ляпнул банальность, что от детей не жди благодарности. А он серьезно сказал, что и не надо ждать - дети свой долг вернут не нам, а своим детям.
Это не просто житейская мудрость, а чуть ли не философская, прости за выражение, тема. Вопреки морали, сантименту и здравому смыслу, человечество устремлено вперед, а не вспять. Здесь основной порок учения Н. Ф. Федорова: никто не воскресит отца, если для этого потребуется отказ иметь собственное потомство.
И когда Лева говорил, что в современном авторе его, в первую очередь, интересует моральный облик, а за эстетическим удовольствием он, если что, и в архив искусств сходит, я с Рубинштейном был решительно несогласен. Другое дело, что спорить надо было с живым, а не возражать безответному покойнику.
Пушкин гений? Гений. Тогда зачем писать свое вместо того, чтобы перечитывать Пушкина? Затем же, зачем нельзя воскрешать отцов за счет нерожденных детей, хотя и качество пушкинских стихов нас устраивает и по отцам мы скучаем и знаем, какими хорошими они были. А нерожденные дети, и не написанные стихи могут оказаться и неудачными.
И у Федорова, и у Рубинштейна есть своя логика. Но люди, вопреки доводам Федорова и Рубинштейна, рожают НОВЫХ незнакомцев, пишут и читают НОВЫЕ стихи, даже если их авторы имеют плохие взгляды и вкусы. Почему, спрашивается?
Потому, что в человеке глубоко сидит желание сделать что-то НОВОЕ самому.
Отсюда мостик в политику. Когда власть убеждает население России, что золотой век в прошлом, развал СССР – главная катастрофа ХХ века, и пытается оживить имперский пафос и вернуть былые территории, она встает на пути стихии творчества, той самой, которая понуждает людей делать на свой страх и риск что-то новое.
(Другое дело, что нынешней власти идейное прикрытие нужно для отвода глаз. Убеждений у них нет – одни инстинкты).
Г.Ч.
Сережа, я честно говоря не понимаю, почему тебя так трогает эта проблема. Ее собственно и нет. Федоров, Рубинштейн и Екклесиаст, конечно, неправы. Под солнцем постоянно появляется что-то новое, чего не бысть прежде. Именно этим жизнь, человек и всякого рода творчество интересны. А чем еще?
Ну и уж совсем литературно, по-моему, рисовать путинистскую некрофилию как «воскрешение родителей». Нормальная, скучная отрыжка империи. И на пути стихии творчества она встает не из любви к отеческим гробам, а исключительно из нелюбви к любым проявлениям свободы, в которых – совершенно справедливо – она ощущает для себя угрозу.
Что же до Лёвы Рубинштейна, то он мне как-то сказал, что ему нравятся все сочинения людей, которых он любит – потому что он их любит. Мы же с тобой, по-моему, одинаковы в том, что отделяем творца от творчества. Я, например, очень радуюсь, если кто-то талантливый оказывается еще и приличным человеком. Но совершенно не требую и не жду этого. Я благодарен всякому талантливому художнику за то, что он мне дарит – даже если считаю художника последней скотиной.
Вообще творческий талант и талант быть хорошим человеком – два отдельных дара. У меня принцип: на книжных полках держать одних друзей, а в личной жизни – других. Иногда первое и второе совпадает, и это счастье.
Не знаю, как ты, но я существую в двух измерениях, и они лишь частично пересекаются. Первое – моя жизнь. Второе – мои литературные занятия. Я в этих мирах разный, причем сознательно разный.
А как с этим у тебя?
С.Г.
Да, Гриша, в этом мы похожи: я тоже не жду существенного соответствия автора его опусам, хотя сам стараюсь не быть уж совсем оборотнем. Здесь у меня, помимо моральных соображений, есть еще и профессиональные - все-таки в поэзии несходство, даже пустячное внешнее, сочинителя в быту и в лирике озадачивает: «И откуда у этого добродушного толстого офицера берётся такая непонятная лирическая дерзость, свойство великих поэтов?» (Л. Толстой об А. Фете) Занятно, что и Толстой далеко не красавец, и хозяин не менее рачительный, чем Фет, но прозаику проза жизни сходит с рук.
Совпадаем мы и в том, что радуемся, когда таланту сопутствуют человеческие добродетели – взять того же Рубинштейна. Не знаю, как ты, а я радуюсь не в малой мере из шкурных соображений: люблю порядок, а раздвоенности в отношении с близкими знакомыми не люблю. (Де, поэт N хороший, но продаст за милую душу.)
А еще мне нравится жанр ЖЗЛ, если, конечно, рассказывается о деятеле искусства, чья персона мне не безразлична. И там, где описываются всякого рода бытовые художества героя, я одновременно и огорчен, и воодушевлен. Причем, как мне кажется, воодушевлен не низменно: «он мал, как мы, он мерзок, как мы», а потому что не перестаю и уже не перестану изумляться, на какую духовную высоту взмывает слабый человек при помощи катапульты искусства.
Короче-мороче, «Пока не требует поэта…» и т. д.
(Продолжение следует)
Переписка часть 2