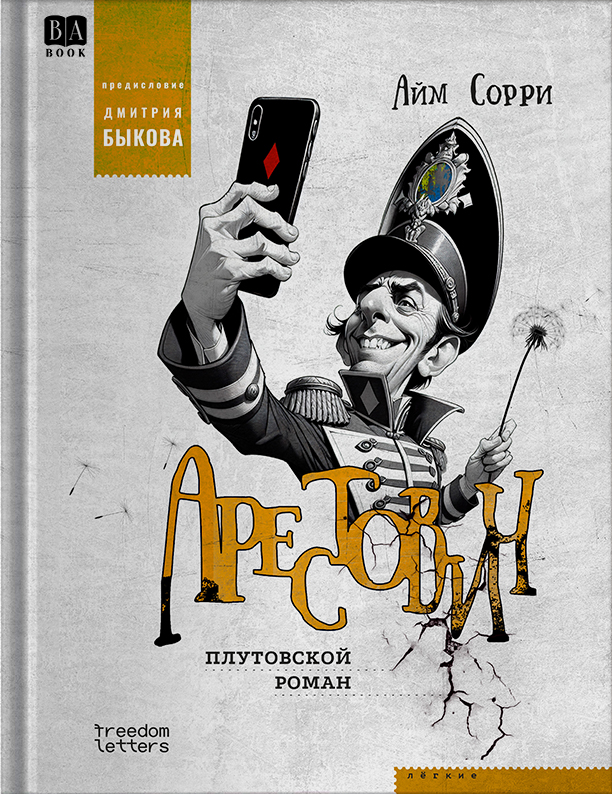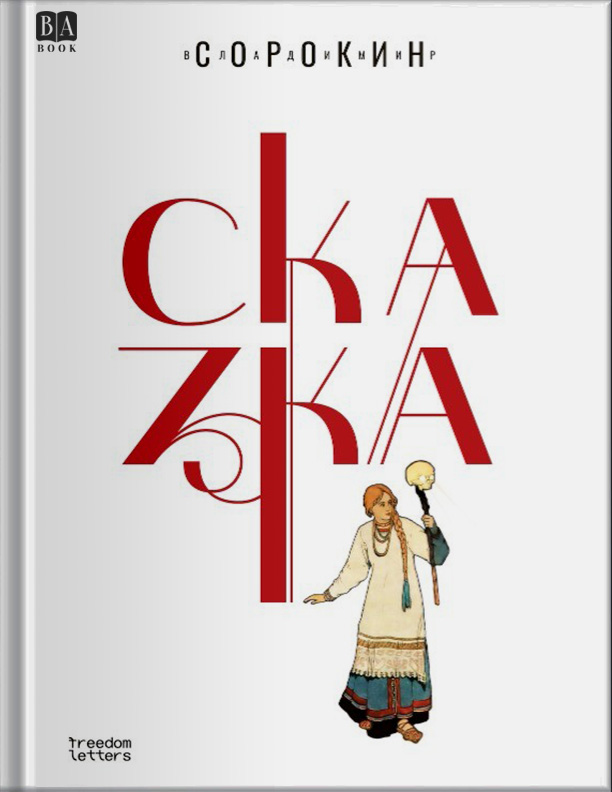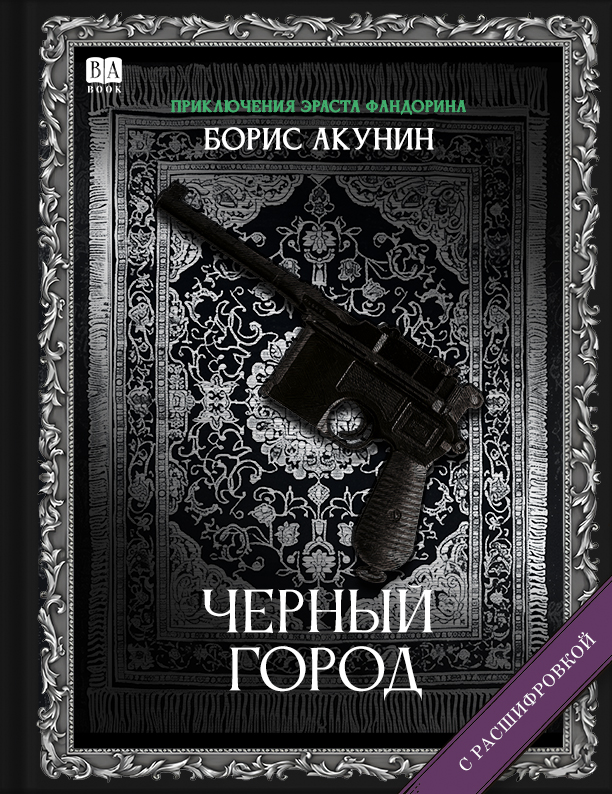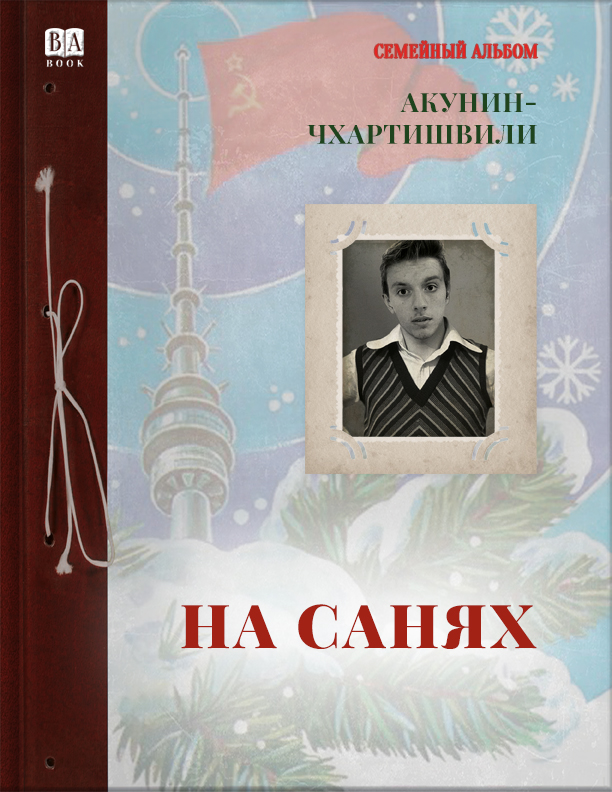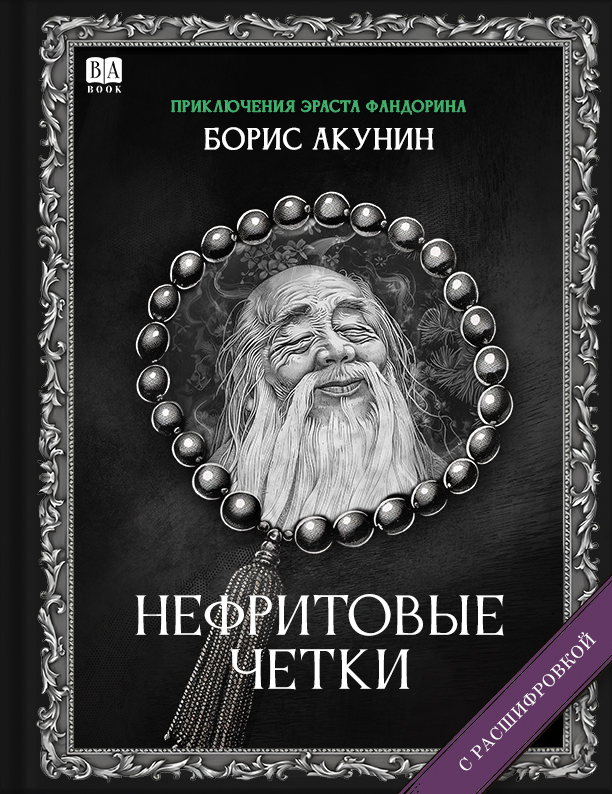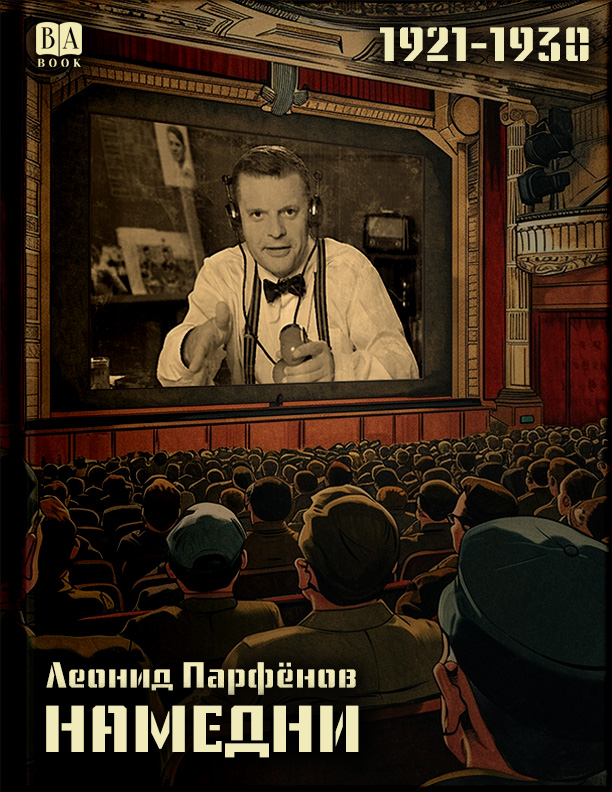ПЕРЕПИСЫВАЕМСЯ С СЕРГЕЕМ ГАНДЛЕВСКИМ (продолжение)
Сегодня у нас вышел том художественной прозы Сергея Гандлевского.
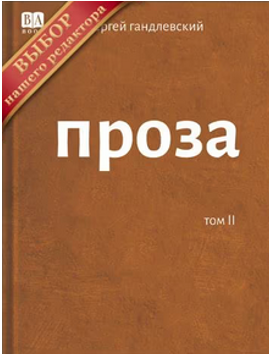
https://babook.org/store/307-ebook
Там повесть «Трепанация черепа» и роман «НРЗБ». В повести в качестве эпизодического персонажа появляюсь и я, так что мы с Сергеем Марковичем давно промотируем друг друга. (Он у меня присутствует в «Любовнице Смерти»).
В публикуемом ниже фрагменте нашей переписки С.Г. заявляет обидное: «Поэтам изредка перепадают удачи в прозе, а прозаикам поэзия заказана». Вот возьму и напишу поэму, будет знать.
А проза у поэта получилась хорошая, кто спорит.
ИЮЛЬ 2024
Г.Ч.
Насчет жанра ЖЗЛ.
Мне чтение биографических книг не очень помогает разобраться в, пожалуй, самой любопытной материи – в химической формуле творческого таланта. Это знаешь, как во времена советских евгенических изысканий 1920-х годов пытались докопаться в мозговом веществе до клеток гениальности. По-видимому, у каждого Моцарта какая-то собственная рецептура таланта. Но биографическая книга всегда – произведение, написанное другим человеком, и больше объясняет про самого автора, а не про объект его исследования. Гораздо лучше в этом смысле работают дневники, они иногда кое-что подсказывают. При этом выдающийся писатель как правило сильно проигрывает, когда читаешь его дневники, а средний бывает что и выигрывает. Ну и понятно почему. Большой художник (от слова «художественная литература») потому и большой, что полнее всего он себя проявляет, когда занимается своим прямым делом – создает свой мир.
С одним исключением. Если дневник изначально пишется как литературное произведение (а не как приватные записи для памяти), он может получиться и огого.
Но самый мой любимый жанр – это когда хороший писатель рассказывает историю своей жизни. Тут необязательно и быть гением. Герцен, Короленко, Шатобриан ведь чудо как хороши именно как мемуаристы. А если это дарование масштаба Набокова – вообще праздник.
Но я отвлекся от занимающей меня темы. Формула таланта. Довольно легко вывести ее по результату творчества. Ну, допустим, Пушкин = (Л х Г) + (ВМ х ОЛ) + ИС, сочетание легкости с глубиной, веселого мужества с отсутствием иллюзий по поводу человеческой природы, плюс идеальный слух. Но гораздо сложнее понять, как и из каких элементов возник этот дар. Почему туповатый мальчик, сочинявший неуклюжие французские стишата, вдруг бац и стал Пушкиным? Что за трансмутация произошла? Это ведь явно не талант гормонального свойства, иначе Пушкин к 37 годам не начал бы к концу жизни являть признаки ранней мудрости.
Не знаю, интересна ли эта тема тебе. Если нет, можешь составить список лучших книг подобного жанра – для наших гипотетических читателей?
1) Биографии 2) Дневники 3) Мемуары. (Причем только про писателей, «Железную женщину» не предлагать).
С.Г.
Привет, дорогой Гриша. Подключаюсь к разговору с твоих слов «По-видимому, у каждого Моцарта какая-то собственная рецептура таланта». Да! Это слова, сбивая с толку, виноваты в наших тщетных потугах найти, как в данном случае, одно объяснение, инструкцию по сборке человеческим сверхъестественным способностям (таланту). Более или менее доверять можно лишь словам, обозначающим предметы: стол, стул, рука, нога и т. п. Как только речь заходит об отвлеченных понятиях – талант, любовь и пр., пиши пропало. Для одного «любить» это приносить себя в жертву, а для другого - истязать, для третьего – докучать опекой, для четвертого – желать любимому благоденствия любой ценой, хоть бы и преступной… А называются эти совершенно разные эмоции одним словом – «любовь».
К твоему перечню исповедальной литературы прибавлю еще две разновидности таковой.
Письма. Согласись, что чтение писем Пушкина, Чехова, Лескова, Тургенева – не пустая трата времени. Эти люди, в отличие от Герцена и Шатобриана, не писали автобиографий, но из их переписки встают совершенно недюжинные личности. А встречаются страницы писем по точности, глубокомыслию и художественности стоящие вровень и с собственно художественными достижениями тех же авторов.
Есть еще такой вызывающе объективный жанр, как свод любых упоминаний о какой-либо персоне. Я имею в виду, в первую очередь, Вересаева о Пушкине и о Гоголе; что-то подобное было и о Лермонтове (помню, на какой полке книга стояла у меня в Москве, а вот автора забыл).
У вересаевского Пушкина обаятельно почти все, даже тщеславие и распутство, а Гоголь Вересаева – сплошь гадость.
Ну, и наконец, много для вживания в прошлые времена дают талантливые комментарии. На меня сильное впечатление произвели комментарии Б. Л. Модзалевского (и его сына) к письмам Пушкина. Что-то в давно миновавшем начинаешь лучше чувствовать. Скажем, я запомнил, что из сравнительно немноголюдного высшего света двух столиц (вопрос к тебе как историку: сколько примерно сотен насчитывал этот культурный слой?) после 14 декабря 1825 года так или иначе убыло 200 человек! Какой урон!
Или такая добыча из того же трехтомника. Сядь, Гриша, на всякий случай: сейчас я доверю тебе заветную тайну. Из комментариев Модзалевского явствует, что был у Пушкина такой корреспондент – сибирский писатель Иван Тимофеевич Калашников (1797 – 1863), автор всяких-разных повестей и романов, вроде, например «Камчадалки». Не читал эту повесть, но могу предположить, что это что-то романтическое из жизни благородных дикарей под стать «Цыганам» Пушкина, «Эды» Баратынского и проч.
Но И. Т. Калашников, в числе прочего, сочинил и роман… «Автомат».
Не одно десятилетие я чах, что твой Кащей над златом, над этим открытием, а на старости лет доверяю свою тайну тебе, будто аббат Фариа Эдмону Дантесу.
А над какой литературной диковиной ты присвистнул?
Г.Ч.
Мое самое сильное впечатление последнего времени, если говорить о литературе, - прочитанные на днях мемуары Евдокии Баскаковой. Вернее один фрагмент: описание смерти писателя Александра Беляева, который «Человек-амфибия», «Голова профессора Доуэля» и прочее подростковое чтение, что-то полузабытое энтузиастически-советское. Может быть, ты знаешь эту историю. Я – не знал.
Беляев был чудик и всю жизнь устраивал себе приключения. В подростковом возрасте пытался соорудить парашют, ударился о землю и повредил позвоночник. В его последующей жизни бывали длительные периоды, когда он лежал пластом, парализованный, и молотил по пишущей машинке, изобретал причудливые миры.
И вот 1941 год. Он с женой и дочкой под Ленинградом, в Пушкине. Эвакуироваться не может – он влежку. Приходят немцы. Хоть это и внешняя сторона блокады, но с едой все равно очень плохо. Однако жена писателя – фольксдойче, ее берут на работу в столовую, и она таскает домой продукты. От военных потрясений у жены едет крыша, она параноидально боится, что еда кончится и что дочка умрет от голода. Поэтому она делает выбор. Копит припасы, но дает еду только дочке. Муж лежит в неотапливаемой комнате (дрова жена тоже экономит), голодный. Там он и умирает от переохлаждения, беспомощный, ослабевший и в конце концов просто замерзший. Потом труп месяц лежит в пустой комнате.
Я вижу перед собой эту жутко реализовавшуюся фантазию: эту голову профессора Доуэля, лишенную тела. Думающую, думающую, постепенно умирающую.
А еще я думаю про преступления любви. Про ее жестокость. Про выбор, который она заставляет делать. Между теми, кого человек любит больше и меньше; между Делом, или убеждениями, или принципами – и любовью.
Объективно говоря, люди, которые не способны на сильную любовь, лучше. Так получается? Во всяком случае, такими, очевидно, были все праведники и святые. Кто любит многих, по-настоящему, штучно, не любит никого.
Знал ты эту правду иль нет?
С.Г.
Да, страшненькая история. Бывает, что пророчества авторов сбываются на 100 % (первое, что приходит в голову - «Сон» Лермонтова или «Рабочий» Гумилева). Хотя какой-нибудь скептик заметит, что оба поэта были сорви-головы, и ясновидение здесь ни при чем.
Теперь о любви. Насчет того, что праведники не знают любви, это смотря какой любви. Им положено страстно любить Бога, и более того, теплохладность (уравновешенность, говоря проще) считается большим грехом (см. «Откровение Иоанна Богослова»).
У меня уже давно выстроена такая иерархия приязней:
Ниже всего страсть, она с пылу-с жару из джунглей.
За ней любовь – этот кипяток разбавлен кое-какими гуманистическими представлениями.
Но первое место, по нынешнему моему самочувствию, конечно, за жалостью. В сочетании с волей жалость много чего может и в частных отношениях, и в обществе, и в деле помощи отверженным, и в сохранении старины, природы и т. п.
Вернемся к нашим баранам. Ты вдруг в зрелые годы стал писателем (я, впрочем, тоже, но в молодости). Это поприще как-то тебя изменило, или ты не можешь поставить чистого эксперимента, поскольку нет в наличии второго Г. Ч., который остался бы на своем посту в журнале?
Г.Ч.
Сначала про любовь и гуманистические представления. Со стороны, конечно, любовь выглядит иногда жутковато и даже подло, это правда. Но это со стороны.
Изнутри же, когда вот так – с полным отодвиганием на второй план всего остального мира, морали и прочего – любят лично тебя, или когда так же любишь ты, всё выглядит иначе. Я испытываю глубокое и несколько пугливое почтение к тем немногочисленным людям, кто умеет без аффектации, по-настоящему любить чужих, любить всех, не думая о себе. На таких людях, хоть их очень немного , конечно, всё держится или, по крайней мере, без них бы всё развалилось. Но разве тебе не хочется, чтобы тебя любили не как одного из многих, а как единственного? Чтоб на тебе сошелся клином белый свет?
А вот жалость, о которой ты пишешь, действительно энергия беспримесно и несомненно чистая. С возрастом я стал понимать, что без нее, жалости, ничего хорошего не бывает, не получится.
Перехожу к ответу на твой вопрос про изменения, произошедшие со мной из-за того, что я стал писателем. Конечно, это очень меня изменило. И продолжает менять. Я сейчас не тот писатель, каким был десять лет назад, а тогда, в свою очередь, был не таким, как я-писатель двадцатилетней давности. И человек я из-за этого теперь тоже во многом другой. У меня вообще впечатление, что при этой профессии меняешься сильнее и быстрее. Потому что всё время подгоняешь свою душу: давай, зараза, не тормози. И душа поддает газу. Несет за темные лиса, за дремучие боры, за высокие горы. Я себе это объясняю на японистский манер: это у меня такой способ существования, Дао Писателя. Перевариваю бытие, превращая его в тексты.
Уверен кстати, что Дао Поэта совсем иное и даже противоположное. Вот ты, поэт, написал две повести, но первая («Трепанация черепа») был скорее эго-прозой, то есть не вполне художественной литературой, а вторая («Нрзб.»), как мне кажется, тоже про самого себя, пускай с беллетристической фабулой.
Поэзия, хорошая поэзия (не рифмованная публицистика типа «Кому на Руси жить хорошо», «Двенадцать» или «Василий Теркин» и не какая-нибудь поп-историческая «Полтава») вообще вся сцентрирована вокруг эмиттера – его чувств, страхов, привязанностей, фобий и т.п.. Всё про себя любимого (или нелюбимого). А вот хорошую прозу пишут авторы, умеющие выйти за пределы своего «я» и стать совершенно другим человеком. И даже многими людьми.
Не знаю, согласишься ты со мной или нет.
С.Г.
Отвечаю по порядку, дорогой Гриша.
Конечно, приятно быть объектом всепоглощающей любви, хотя меня бы, думаю, не оставляло чувство шального везения и, следовательно, страх разоблачения.
С любовью «к чужим и ко всем», которую ты поминаешь, сталкивался, но, по большей части, это было сопряжено с такой безвкусицей и показухой – хоть святых выноси. Хотя энергия показухи и гордыни может и сослужить кому-нибудь добрую службу, так что «Назад-назад!» - как говаривал покойный Витя Коваль.
Манифест жалости я перепечатал как-то в ФБ. На водосточной трубе ветер трепал объявление: «Пропала старая, слепая, глухая беспородная собака. Нашедшему вознаграждение» - и снизу телефонный номер.
Едем дальше. Конечно, автор сильно контужен своим родом деятельности. По мне, прежде всего, тем, что художественное творчество прививает взгляд на жизнь как на залежь ископаемых, которые хорошо бы пустить в дело. Иногда такой подход одновременно впечатляет и шокирует, взять хоть «Безутешное горе» Крамского, чаще - скатывается в аморалку и попросту возмущает. Такое потребительское отношение к жизненным коллизиям и переживаниям, на мой вкус, должно отвращать автора, уж во всяком случае, паразитарство на жизни нельзя в себе поощрять и культивировать. Мастером коллекционировать «миги» был, говорят, Брюсов – туда ему и дорога.
Согласен, поэт и прозаик совершенно разные психические типы, даже по своим, вроде бы, второстепенным профессиональным проявлениям. Поэтам изредка перепадают удачи в прозе, а прозаикам поэзия, вроде бы, заказана. Или я кого-то упустил? (Чур, гении не в счет!)
Конечно, меня как лирика, крепко притороченного к собственной персоне, зависть берет по отношению к прозаическому дару. Это непостижимо: выдумать человека, вокруг которого можно обойти – настолько он объемен. Толстой здесь, на мой вкус, не знает себе равных: он и очаровательный бонвиван Стива Облонский, и измученная страстью Каренина, и попавший в гибельный переплет Хаджи-Мурат!
Когда я приваживал своих детей к чтению, я говорил, что к своим сорока годам встретил человек 30, сильно на меня повлиявших, причем больше половины из них – вымышлены разными писателями!
Г.Ч.
Поговорим-ка про то, как стареют прозаики и как стареют поэты.
Старение, на мой нынешний взгляд, - самое интересное и самое недоизученное приключение человеческой жизни. Тут почти сплошь потайные ходы и двери с табличкой «Посторонним вход запрещен».
Меня интересуют твои впечатления от процесса. Не обычные, человеческие, не касающиеся имплантов и ревматизма в коленке, а как поэта.
Когда я с тобой познакомился, ты был довольно молодой поэт. Теперь ты довольно старый поэт. И я полагаю, что твой внутренний двигатель работает на ином топливе. Я не имею в виду физиологию, я имею в виду нечто менее уловимое. Вот в японской литературе есть понятие «последний взгляд», имеется в виду взгляд, которым писатель или художник провожает жизнь. Якобы он имеет особенную остроту и ясность.
С прозаиками проще. Мы сообщаем о своих впечатлениях прямым текстом. Днем в газете – вечером в куплете. Я прямо романами, незашифрованным текстом фигачу: смысл жизни в том-то, счастье в том-то, правильно надо жить так-то. Отчитываюсь о проделанной работе. Но у вашего брата Ленского всё ведь устроено хитрее? Вы же в простоте не умеете.
Я подозреваю, что в старости стихи должны даваться труднее. И становиться еще более эзотеричными. Менее внятными посторонним. То есть мы, прозаики, невидимо склоняясь и старея, к народу приближаемся, а вы, наоборот, отдаляетесь. Так это или нет?
Вот объясни, например, про «веселый и печальный» из твоего недавнего стихотворения, где поминается Кенжеев, тогда еще живой, а сейчас уже нет:
И ты, поскольку стар, глядишь в окно
Такой веселый и печальный –
Восторг прощальный твой Нью-Йорк прощальный.
Я в моем теперешнем возрасте не веселый и не печальный, а спокойный, и мне, как мы выяснили раньше, всех жалко. Ну, почти всех. Когда станет жалко даже последних подонков, наверное, это будет уже совсем старость.
С.Г.
На меня, Гриша, старость обрушилась, как снег на голову, сравнительно недавно, и я поспешно стараюсь привести свое поведение в соответствии с новым положением вещей. Странно, конечно, все это - «мальчик, сделавшийся старичком…» (Лев Лосев). Прыти-то еще сколько-то осталось, но неохота выглядеть шутом гороховым, хоть бы и в собственных глазах.
Японцы, которых ты поминаешь, молодцы – именно так: последнее обостренное жизнелюбие и созерцательность (пока, понятное дело, недуг не превратил тебя в страдающее животное). Такого жизнелюбия как сейчас я за собой и в молодости не упомню, или забыл. У меня об этом и в стихах есть:
***
«Гав!» - из-за шкафа скажет стишок.
Как ты меня напугал!
Выпить рассчитывал на посошок,
а развезло наповал.
Радость моя в смысле старость моя,
стыдная жадность моя!
Кошки, собаки, враги и друзья,
лоси, улитки, семья!
Боже, сто лет человеку в обед,
к исчезновенью обвык,
в зеркале – вылитый дед-краевед,
из СНТ «Газовик».
В детство впадаю и в рифму, и без,
радуга между ресниц,
будто вступаю в березовый лес
с определителем птиц.
2020
А Цветкову это настроение и смолоду было знакомо:
Я все отдам за слово "тишина",
За слово "жизнь" в его прощальном смысле.
Отсюда, собственно, и два антонима - «веселый и печальный» - бок о бок в моем стишке. «Веселый» потому, что я все-таки видел Нью-Йорк, «печальный» потому, что, скорей всего, больше не увижу.
Делает ли возраст лириков более эзотеричными? Не сделал бы такого вывода.
Мастер изводить себя головными построениями Пастернак под старость через не хочу впадал в неслыханную простоту a la Исаковский; Мандельштам, напротив, от травли и ужасов времени, по моему секретному предположению, тронулся рассудком и впал в неслыханную темноту; Ходасевич вообще утратил лирическую силу, а талант Георгия Иванова к старости расцвел…
Я бы, на своем читательском опыте, подтвердил общее место, что юность склонна усложнять и наводить тень на плетень, а зрелости и, тем более, старости уже не до того: «Объяснять мир нужно просто, как только возможно, но не проще» (Эйнштейн) – вполне стариковский подход.
Теперь о стариковском сочувствии к ближним и дальним. Мне, Гриша, тоже всех жалко, особенно в теории. А на практике случаются и раздражительность, и обидчивость. Никогда не был большим поклонником Тютчева, но вот эти стихи впору повесить над письменным столом – для памяти. Ими и завершу на сегодня:
Когда дряхлеющие силы
Нам начинают изменять
И мы должны, как старожилы,
Пришельцам новым место дать,-
Спаси тогда нас, добрый гений,
От малодушных укоризн,
От клеветы, от озлоблений
На изменяющую жизнь;
От чувства затаенной злости
На обновляющийся мир,
Где новые садятся гости
За уготованный им пир;
От желчи горького сознанья,
Что нас поток уж не несет
И что другие есть призванья,
Другие вызваны вперед;
Ото всего, что тем задорней,
Чем глубже крылось с давних пор,-
И старческой любви позорней
Сварливый старческий задор.
Переписка часть 1