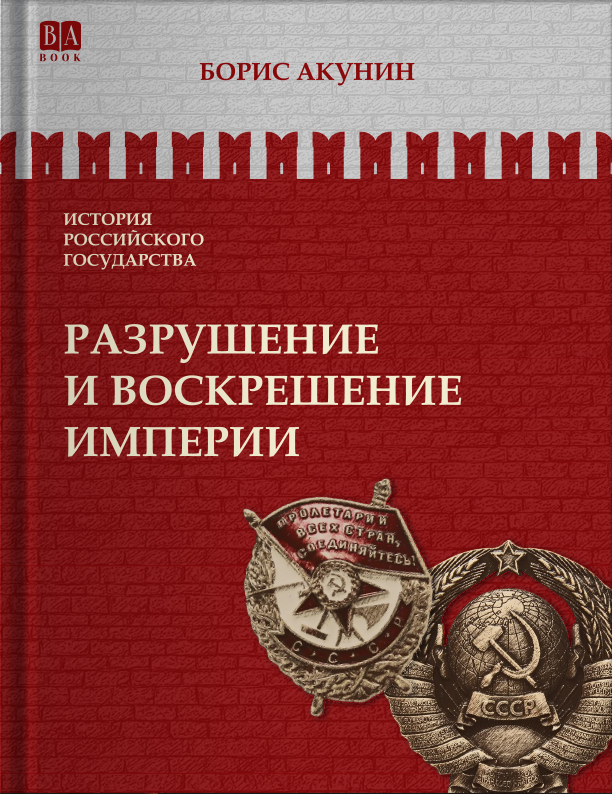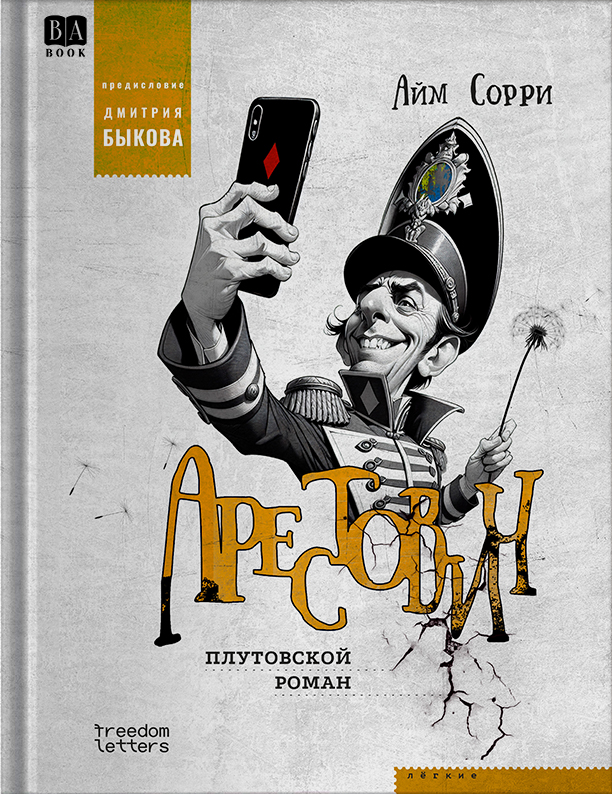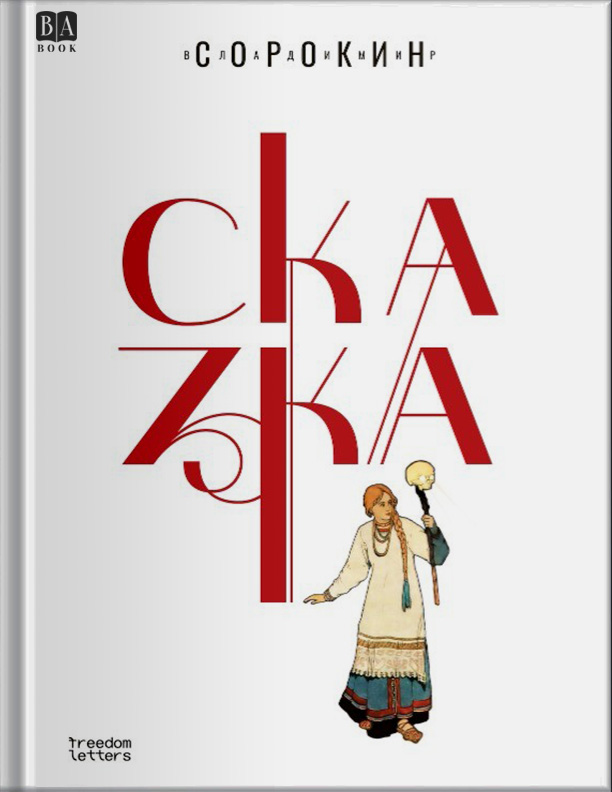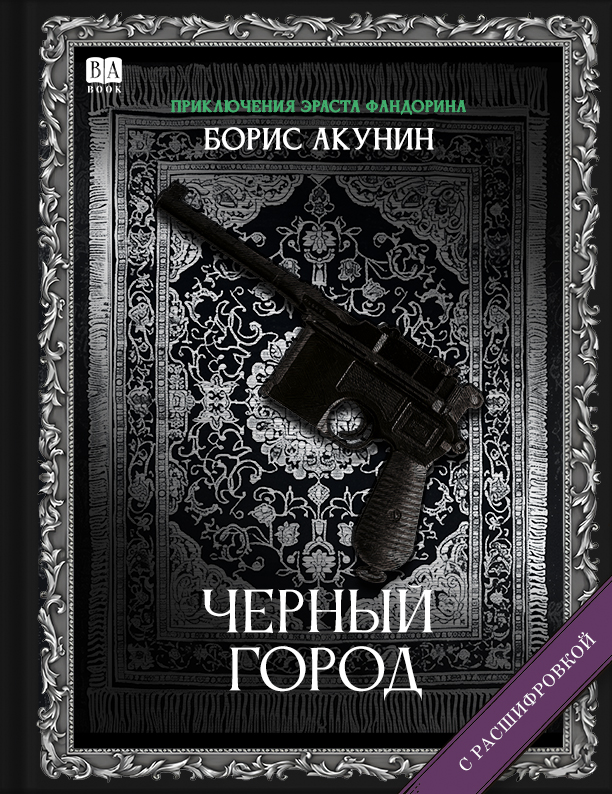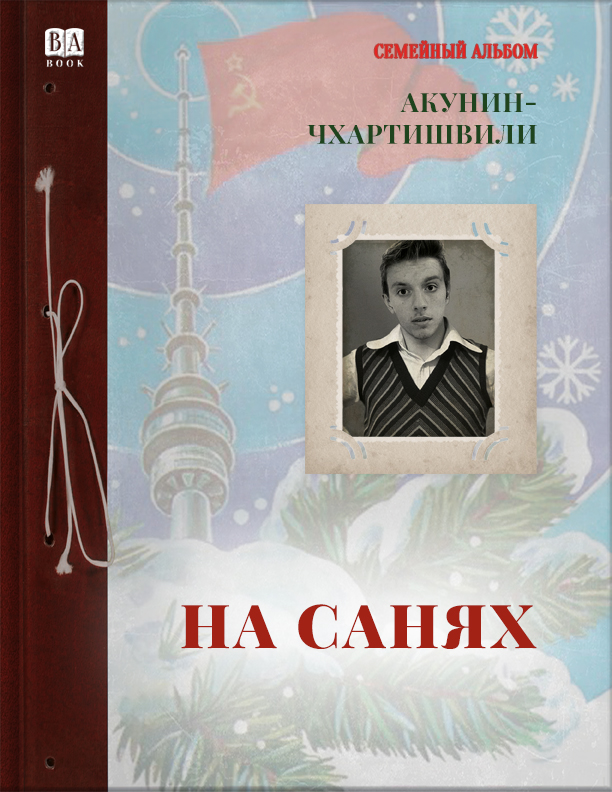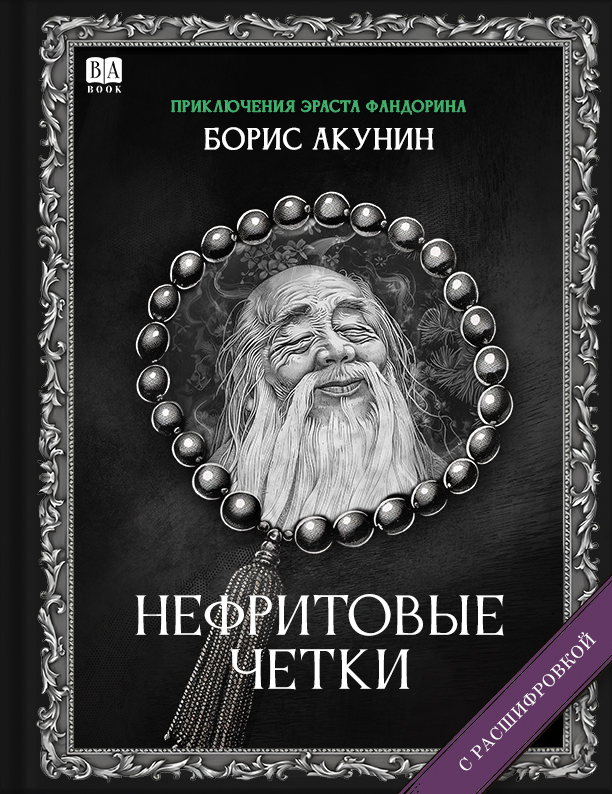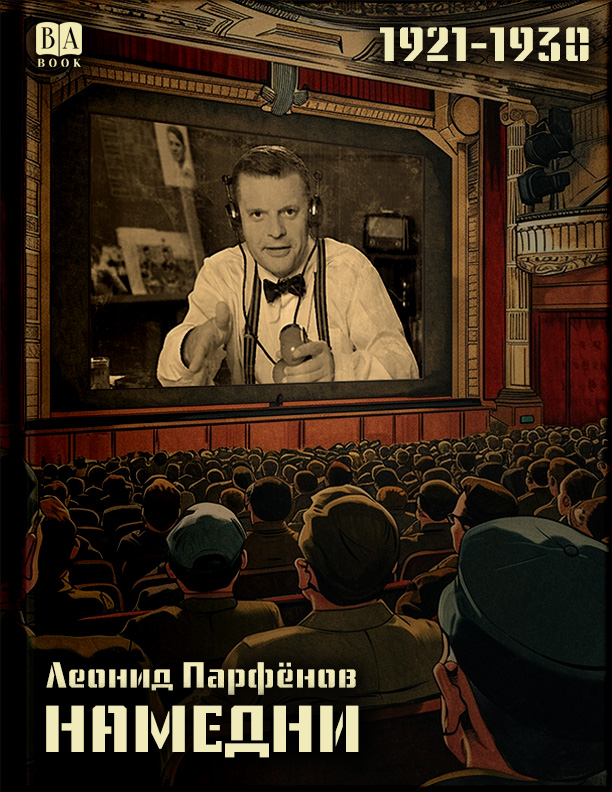Дмитрий Губин. Германия, где я теперь живу
Дорогие читатели!
Мы продолжаем публиковать книгу Дмитрия Губина «Германия, где я теперь живу». Книга будет публиковаться долго, больше месяца. Напомним, что эту рубрику мы специально сделали для российских читателей, которые лишены возможности покупать хорошие книжки хороших авторов. Приходите каждый день, читайте небольшими порциями совершенно бесплатно. А у кого есть возможность купить книгу полностью – вам повезло больше, потому что вы можете купить эту книгу еще и в аудио версии. Книгу совершенно замечательно прочитал сам автор.
Читайте, слушайте, с нетерпением ждем ваши комментарии!
Редакция Книжного клуба Бабук

Вернувшись из Вюрцбурга, я выкладываю в сетях снимки и текст, в котором вскользь замечаю, что на самом исходе войны, в марте 1945-го, город подвергся жестокой и бессмысленной бомбардировке: военных объектов там не было. Вюрцбург был разрушен на 90 процентов. На исходе войны случилось несколько таких бомбардировок (Вюрцбурга, Хальберштадта), когда складывалось ощущение, что британские ВВС бомбили идиллические города либо из мести, либо из профессионального военного интереса. Или — тоже вариант — по причине того, что если есть бомбы и бомбардировщики, то не пропадать же добру. Те писатели, что всерьез интересовались этой темой (Даниел Ергин в «Добыче», Малкольм Гладуэлл в «Бомбардировочной мафии» или В. Г. Зебальд[1] в «Естественной истории разрушения») — они придерживались двух последних версий.
Для меня деление немецких городов на подвергшихся бомбардировкам и бомбардировок избежавших важно по причине наглядности. В российских, украинских или белорусских городах глаз обычно не находит следов военных разрушений: советская власть прошлась по стране сильнее войны, архитектурно унифицировав города. А вот в Германии новоделы на месте военных руин (женщины, которые их вручную расчищали, получили имя Trümmerfrauen, «трюммерфрауэн» — «женщины обломков») до сих пор выглядят, как цементные пломбы в городском рту. И я, идя мимо этих пломб, неизменно пытаюсь представить, как выглядел зуб. А иногда, когда целые кварталы состоят из пломб (и я не про Гамбург или Дрезден, ковровые бомбардировки которых хорошо известны, — а, например, про Дармштадт), я испытываю настоящий ужас. Я ужасаюсь давно прошедшему точно так же, как радуюсь старинным сохранившимся городам: каким-нибудь Швебиш Халлю, Тюбингену, Бибераху, Равенсбургу, Кведлинбургу — на них бомбы не падали…
Так вот: я в фейсбуке кратко упоминаю бомбардировку Вюрцбурга и внезапно получаю жесткий ответ: я — ревизионист и чуть ли не апологет нацизма. Вюрцбург и прочие города получили по заслугам! Вюрцбург был справедливо уничтожен за то, что он не сдался. И нечего эту тему поднимать!
Ого. Это мне пишет пристально следящая за моими публикациями Валерия М.: уехавшая в Германию с обломков СССР (тоже своего рода трюммерфрау!) образованная и въедливая женщина. За четверть века жизни в Германии она не просто выучила немецкий, но вгрызлась в мельчайшие детали немецкой истории. За мной она следит с ревностью старого, заслуженного эмигранта, которого выводят из себя глупости дуралея-новичка. Она не прощает мне ни малейшей неточности. Она — мое личное бюро проверки. Обычно я смиренно принимаю ее ехидные реплики, но на этот раз мы схлестываемся, воспроизводя в миниатюре то, что случилось в среде немецких профессиональных историков в 1980-х: столкновение из-за отношения к прошлому, вошедшее в историю как Historikerstreit, «спор историков». Но который правильнее назвать «ссорой историков». Тогда реально рушились репутации: обмен ударами шел не на научных конференциях, а публично, на страницах таких влиятельных газет, как Frankfurter Allgemeine Zeitung и Die Welt.
Дело в том, что Германия — это страна, где сегодняшнее не поймешь в полной мере без прошлого. И уж точно — без национал-социалистического прошлого. Едва начав говорить по-немецки, я стал знакомых немцев мучить вопросом: «Warum Hitler?» — «Почему Гитлер?» Как так случилось, что в стране с высочайшей культурой, стране Гёте и Шиллера… У меня сложилась целая коллекция ответов. Например, одна моя учительница немецкого, образцово-показательная немка Аннелиза (жена врача и мать врачей, занятия начинаются секунда в секунду, волосы уложены волосок к волоску) выдала классическую версию про немецкий ресентимент после поражения в Первой мировой, про гиперинфляцию, про тоску по порядку. Но ее коллега Карола, символизирующая обратную сторону Луны (взлохмаченные волосы, папироска-самокрутка на перемене, очередной штраф за неправильную парковку), лишь махнула рукой: «Quatsch! Чушь! Просто Гитлер был болтун! Он был такой оратор, что мог зажечь кого угодно! Но про это никто не говорит!»
А потом я спрашивать перестал. Потому что это было как спрашивать: «Почему в России, стране Чехова и Толстого, пришел к власти Путин?»
Сегодняшняя Германия отличается от России тем, что не прекращает усилий по поиску ответа на вопрос «как так случилось?» — с тем, чтобы исключить «можем повторить». Ты выходишь в Берлине на остановке у Филармонии — там стенд с фото изящной виллы. Читаешь: в сотне метров отсюда, на этой вилле, был впервые испытан «Zyklon B», «Циклон Б», которым травили в газовых камерах… Включаешь телевизор: идет документальный фильм про нацистов, бежавших в Латинскую Америку. Подходишь к Мюнхенскому университету: в брусчатку вмонтированы бронзовые таблички с именами ребят из организации сопротивления «Белая роза», все были казнены… Именно в Германии мой однокурсник Сергей Пархоменко подсмотрел идею «Последних адресов»: табличек на стенах домов, откуда уводили при Сталине в лагеря и на смерть. Просто в Германии таблички с именами убитых во время нацистского террора впечатаны в тротуар у тебя под ногами. Это Stolpersteine — «камни преткновения» в самом буквальном смысле слова...
Однако поиск причин, сделавших Гитлера, национал-социализм, войну и Холокост возможными, в побежденной Германии начался вовсе не сразу. Среди образованных людей в России популярна легенда, будто бы после поражения в войне в Германии тут же стартовала принудительная (и успешная) денацификация. То есть тотальная люстрация, вследствие которой нацистские функционеры и активисты NSDAP[2] оказались в тюрьме или были поражены в гражданских правах, — а остальные ужаснулись содеянному. А разве не так? Ведь немецкий философ Карл Ясперс уже в 1945 году выступал с лекциями и написал книгу «Вопрос о виновности. О политической ответственности Германии»[3]! Ведь немецкий филолог Виктор Клемперер (чудом выживший: он был евреем) уже в 1947 году издал «L.T.I. Язык Третьего рейха», где по словам и складам разобрал язык нацистской пропаганды, настаивая на его полном искоренении! Клемперер был одним из организаторов денацификации!
Увы. Искоренение нацистских идей заняло в Германии долгие десятилетия. А что до принудительной денацификации — то она фактически провалилась, обратившись в формальность. Письменное свидетельство, что человек, вызванный в Spruchkammer (особую правовую комиссию, созданную оккупационными властями), сочувствовал во времена Гитлера евреям, легко можно было купить. Решение о невиновности получило презрительную кличку «Persilschein», по названию стирального порошка «Persil», — в общем, «отстирашка». Вчерашние сторонники Гитлера не просто избежали тюрьмы, но и заняли видные должности. В администрации Конрада Аденауэра, первого канцлера ФРГ, работал Ганс Глобке: при Гитлере — официальный комментатор нацистских расовых законов… Но дело даже не в должностях, а в том, что послевоенная Германия пребывала в состоянии некого оцепенения. Это хорошо схвачено, например, в очерках из книги «Немецкая осень» молодого шведского писателя Стига Дагермана, командированного в 1946-м в Германию редакцией газеты «Экспрессен»[3].
Там есть отчет о собрании в Штутгарте («с трудом узнаваемом трупе города, при жизни поражавшем невиданной красотой, теперь полностью скрытой почерневшими пепелищами»), на которое пришли молодые люди, ровесники Дагермана, бывшие при Гитлере членами партии или даже служившие в СС.
Перед ними выступает юрист из Spruchkammer. Он пытается объяснить, чем там руководствуются, вынося приговоры.
— Мы просто юристы, — говорит он, — не надо плевать нам в лицо! Мы вынуждены подчиняться, потому что капитуляция Германии безусловна, и союзники могут делать с нами все, что захотят. Бессмысленно подделывать Fragebogen[4]. Вы только усложняете жизнь и нам, и себе, поскольку американцам известно, кто был нацистом, а кто не был. Вы жалуетесь, что мы медленно работаем, но ведь в одном Штутгарте перед судом должны предстать сто двадцать тысяч человек! Вы пишете письма с жалобами, что вас будут судить, хотя вы не считаете себя виновными ни в каких действиях, связанных с пособничеством нацизму. Отвечаю вам: вы поклялись фюреру в безусловной вере и беспрекословном подчинении. Вы платили четыреста марок партийных взносов в год. Разве это не действие?
В ответ несется:
— Но ведь Гитлера признавал весь мир! Первым его признал папа римский. Я сам видел фотографию, на которой он жмет ему руку!
— Все солдаты были обязаны принести присягу фюреру!
— Герр адвокат, нам тогда было четырнадцать лет!
— Все знают, как попадали в СС. Приходят и говорят: ты, Карл, ростом метр восемьдесят, идешь в СС — и Карл идет в СС!
— Нас, начинающих юристов, заставляли вступать в партию. И кто помог бы нам, если бы мы отказались?
Ему еще много что кричат. Что из-за членства в партии у многих теперь ни работы, ни жилья. Что за преступления отцов наказывают детей. И юристу нечего возразить. Потому что по логике люстрации нужно судить целую нацию. А объявление целой нации виновной — это то, что творил Гитлер.
В итоге вместо разбора преступлений прошлого в Германии возникает заговор молчания по поводу прошлого. Тем более, что у США, Великобритании и Франции появляется (а точнее, возвращается) враг куда более опасный, чем поверженная Германия: укрепляющийся Советский Союз. А значит, Западу нужен союзник: возродившаяся из пепла и при этом демократическая Германия… Прошлое теперь не то чтобы не осуждают, — его не обсуждают. Аннелиза поздно узнала, что ее отец был в советском плену. Он никогда о войне не говорил. «Он мог, — говорит Аннелиза, — иногда целый день молча просидеть в кабинете».
Заговор молчания был нарушен, когда выросло поколение детей, на котором не было греха отцов. И оно предъявило счета отцам по полной программе. Этими счетами переполнены романы Генриха Бёлля, начиная с «Глазами клоуна» (1963) и заканчивая «Женщинами у берега Рейна» (1989). Тогда же немоту преодолели прошедшие через Холокост евреи, кто прежде был подавлен комплексом жертвы, испытывающей лишь боль, стыд и унижение. Классический пример — писатель Жан Амери, выживший в Аушвице, молчавший после войны два десятилетия[5]…
Только в 1970-м канцлер ФРГ Вилли Брандт совершил знаменитый Warschauer Kniefall, «варшавское коленопреклонение», публично встав на колени перед мемориалом в варшавском гетто. А в 1979-м по телевидению Западной Германии показали американский мини-сериал «Холокост» (с Мэрил Стрип в главной роли). Он вызвал культурный шок. Его посмотрел в ФРГ каждый второй взрослый немец. Когда он шел, воры могли выносить из квартир что угодно. И вот тогда заговорили действительно все, — включая тех, кто считал, что прошлое лучше не ворошить.
В 1987 году 64-летний историк Эрнст Нольте опубликовал статью «Прошлое, которое не уходит». Кажется, он просто хотел привлечь внимание к своей новой книге. Тезисы статьи и книги совпадают: преступления нацизма велики, но не исключительны на фоне сталинского террора, коллективизации и ГУЛАГа; национал-социализм являлся реакцией на коммунизм. Однако Нольте получил чрезвычайно жесткий ответ от страстного и яростного публичного интеллектуала Юргена Хабермаса, который видел за Нольте и его сторонниками желание представить зло банальным, а, главное — уйти от разговора об ответственности большинства за преступления, совершавшиеся меньшинством.
Так начался знаменитый, длящийся целый год и сильно повлиявший на Германию Historikerstreit, «спор историков». Который по мере повышения тона все больше имел отношение не к фактам или их интерпретации, а к немецкой самоидентификации. Где поворотным пунктом был: должны современные немцы принять на себя ответственность за преступления национал-социализма — или нет? Ответ известен: немцы ответственность приняли, Хабермас и его сторонники победили. Замечание Нольте, что Хабермас и его сторонники вели себя в соответствии с логикой Гитлера, который тоже возлагал вину на нацию целиком, — в расчет принято не было. Принцип покаяния и принятия ответственности за Холокост стал определять судьбу новейшей Германии, в том числе и после падения Берлинской стены.
Однако у этого решения со временем обнаружились и цена. Конечно, принятие на себя ответственности не за свою вину мобилизует. Оно чем-то сродни поведению при разводе по схеме: «Я один за все отвечаю, а потому ухожу налегке, начиная жизнь с нуля». (К слову: день капитуляции вошел в немецкую историю как «Stunde Null», «час ноль»). Однако такое поведение поощряет тех, кто готов навьючить на других собственные вины, действуя по принципу «раз я жертва, то на мне ни за что вины нет, а потому я могу творить что угодно».
Вот почему документальные ленты о преступлениях нацистов идут по немецким телеканалам чуть не ежедневно, но о преступлениях против немцев вы фильмов не встретите, хотя такие факты и не отрицаются. Сама идея, как память об ожоге, заставит отпрянуть: не будет ли это воспринято как реабилитация нацизма?
Отказ от заговора молчания в отношении нацизма привел к другому заговору молчания: в отношении преступлений против живших при нацизме. Долго не говорилось об изнасилованиях немок красноармейцами, хотя таких случаев были сотни тысяч. Изнасилованы были сестра и мать Гюнтера Грасса, о чем он кратко упоминает в «Луковице памяти», куда больше отводя места объяснению того, как он старшим подростком оказался в зенитном расчете СС. Еще в 1954 году в США были анонимно изданы свидетельства немки Марты Хиллерс, ставшей наложницей советского офицера. Пять лет спустя «Eine Frau in Berlin» («Женщина в Берлине») вышла и в ФРГ, однако была встречена так холодно, что про нее все предпочли забыть до 2008 года, когда вышел фильм «Anonyma — Eine Frau in Berlin» («Безымянная: женщина в Берлине»). И хотя о депортации на принудительные работы в СССР румынских немцев, начиная с 17 лет, можно узнать из романа нобелевской лауреатки Герты Мюллер «Качели дыхания» (2009), но разговора о том, что Россия должна выплатить бывшим рабам компенсации, представить нельзя.
Впрочем, о советских преступлениях речь в Германии порой все же заходит. Но о преступлениях против немцев нынешних союзников по НАТО и ЕС — практически никогда. Разве что внутри академических кругов, где хорошо помнят о перечеркнутой репутации Эрнста Нольте, — и о том, к чему приводит перенесение научного спора в публичную сферу. Никто не напишет книгу и не снимет фильм о расправах в 1945 году над немцами в чешских городах Постолопрты и Пршеров. В первом было убито 760 гражданских немцев в возрасте от 15 до 60 лет, во втором — 265 беженцев, включая 120 женщин и 74 ребенка (младшему было 8 месяцев). Этому посвятит целую главу в своей книге «Немецкая система» в свою бытность российским журналистом Сергей Сумленный, а немецкий журналист такое позволить себе не может.
Впрочем, и Сумленный, получив немецкое гражданство и поработав в фонде Бёлля в Киеве, вряд ли рискнет сегодня обвинить хоть в каких-то военных преступлениях украинскую сторону. Ведь он оказался в новейшей зоне немецкого молчания, сформированной историческим паттерном «лишь агрессор отвечает за все, а с жертвы не может быть никакого спроса».
Вот почему мне предъявила претензии Валерия М. Вот почему сейчас, когда я пишу эту главу, в двусмысленнейшем положении оказались немецкие политики, изучившие огромное расследование журнала Der Spiegel и телеканала ZDF о взрывах на газопроводах «Северный поток». Невозможно спорить с тем, что (цитирую «Шпигель») там была совершена «атака на энергоснабжение страны, беспрецедентный диверсионный акт, не сказать бы — нападение на Германию». Однако расследование доказывает, что «Северные потоки» были взорваны украинскими диверсантами. То есть представителями страны-жертвы.
Как себя в итоге ведут немецкие политики? Проверенным способом: они молчат. Что, с моей точки зрения, говорит о том, что «спор историков» не завершен.
Пусть даже Валерия М. будет этим возмутительным выводом недовольна.
1. Я не люблю сокращений писательских имен: А. С. Пушкин — это кто: Александр Сергеевич или Автандил Сигизмундович? Но имя В. Г. Зебальда, этого немецкого Набокова, следует записывать именно так: «Вэ-Гэ-Зебальд». Вэ-Гэ-Зебальд на этом настаивал. В России В. Г. Зебальда (в отличие от Набокова) знают мало. В продвигаемую в СССР плеяду «немецких писателей-антифашистов» (Брехт, Бёлль, Грасс) он по причине возраста не попал. Если кого-то мои слова о гении В. Г. Зебальда убедили, начните его с романа «Аустерлиц». Он не про небо Аустерлица в глазах Андрея Болконского, но отражение войны в нем есть: Второй мировой.
2. Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, национал-социалистическая немецкая рабочая партия (НСДАП) — партия Гитлера.
3. К сожалению, даже внимательные русские читатели Ясперса, не владея немецким, совершают стандартную ошибку. В немецком языке слова «ответственность» и «вина» не синонимичны. «Ответственность» имеет значение либо «Haftung» (обязанность покрыть убытки и расходы, отсюда и непроизносимое слово «Haftpflichtversicherung», «страхование гражданской ответственности»). Либо — «Verantwortung», когда кто-то ответственен за порученную работу или оставленного в детском саду ребенка. А вина — это однозначно «Schuld». Поэтому то, что звучит по-русски двусмысленно («вы несете за это ответственность» — вы виновны в произошедшем? Или вы обязаны покрыть ущерб, хотя в этом нет вашей вины, потому что окно разбили не вы, а ваш ребенок?), по-немецки будет звучать однозначно. Ясперс признавал коллективную ответственность немцев за Гитлера и войну (то есть то, что немцам придется во всех смыслах расплачиваться за содеянное Гитлером), однако категорически отрицал коллективную вину, настаивая на том, что вина всегда индивидуальна.
3. Стиг Дагерман, «Немецкая осень». СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2023.
4. Самостоятельно заполняемая анкета, в данном случае — политическая.
5. Идея «поэзии после Аушвица» — то есть идея о том, что после Аушвица больше невозможно писать стихи, была сформулирована философом Теодором Адорно.