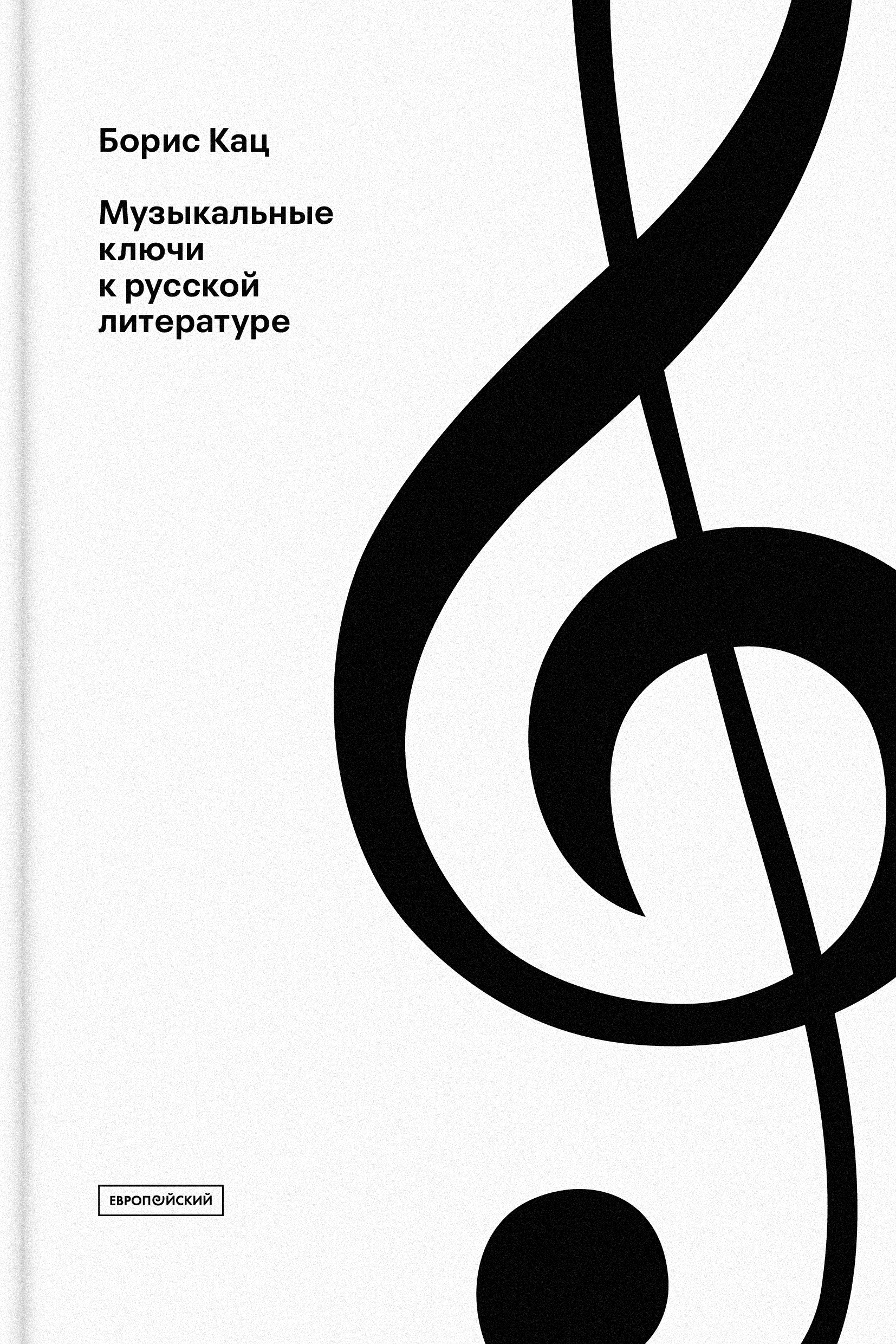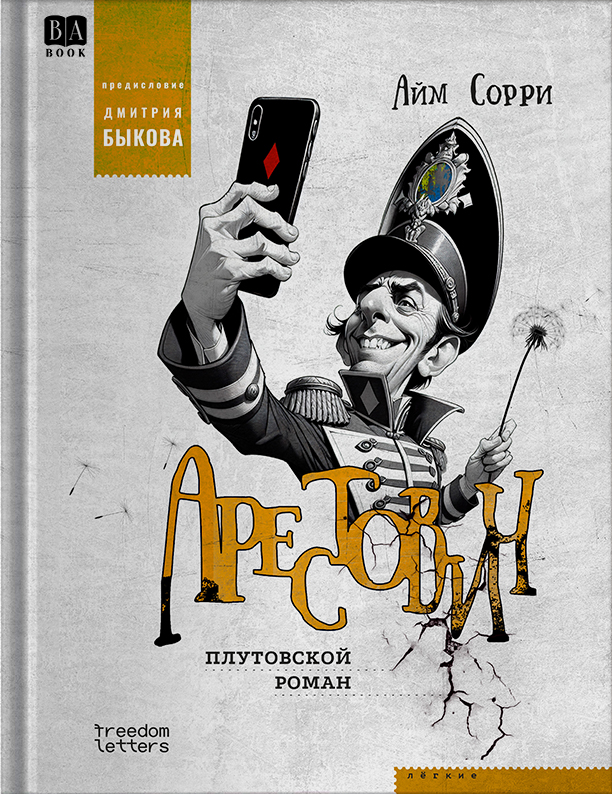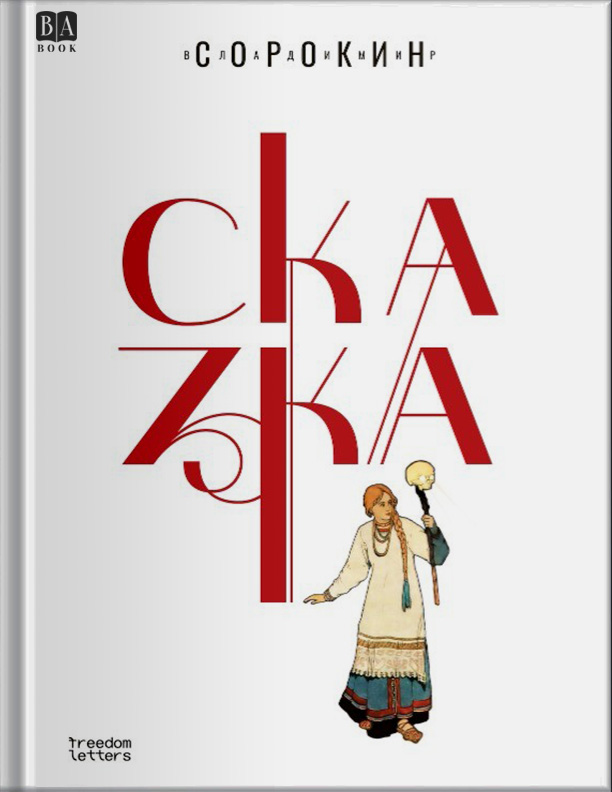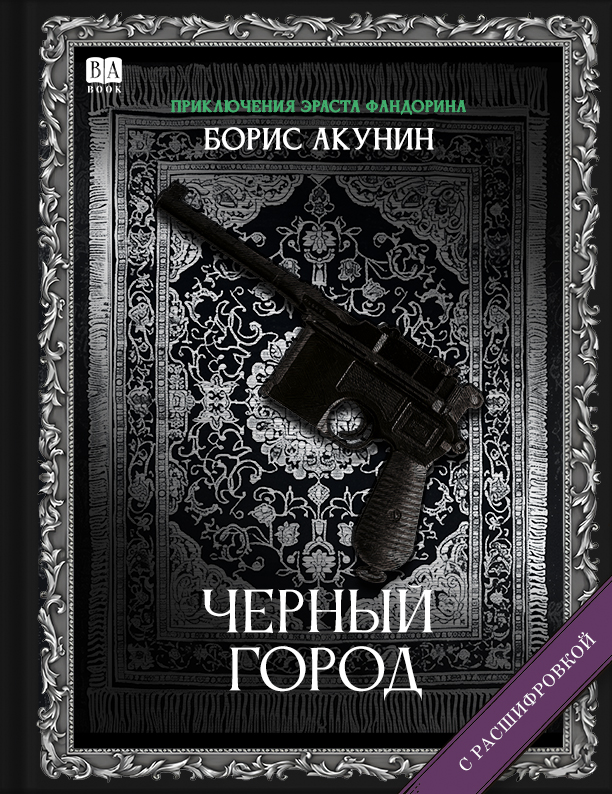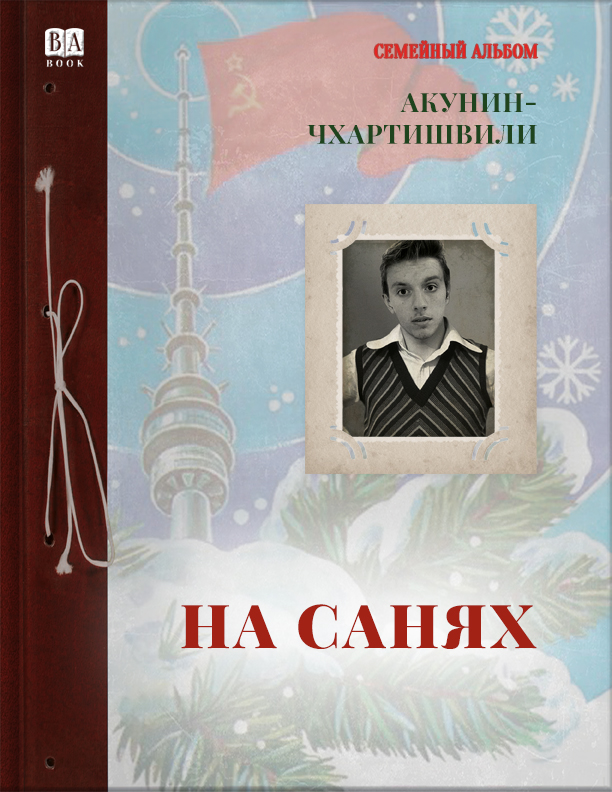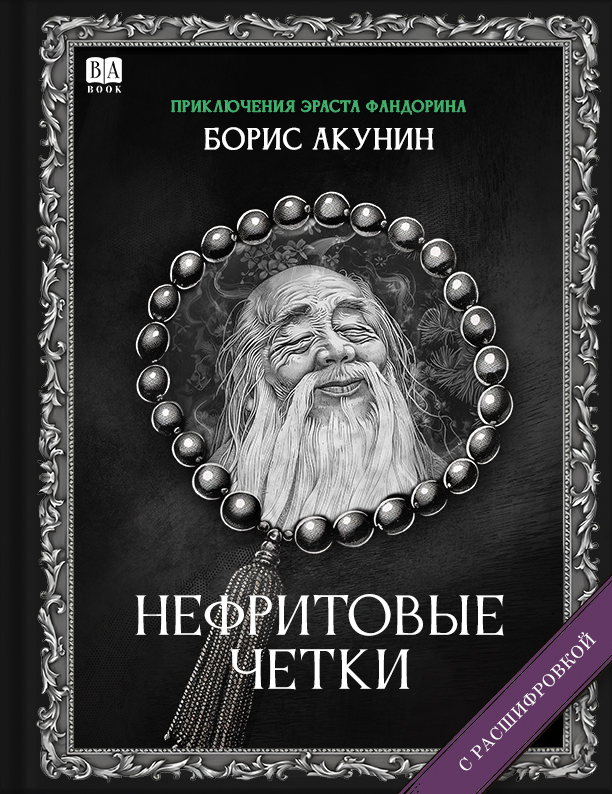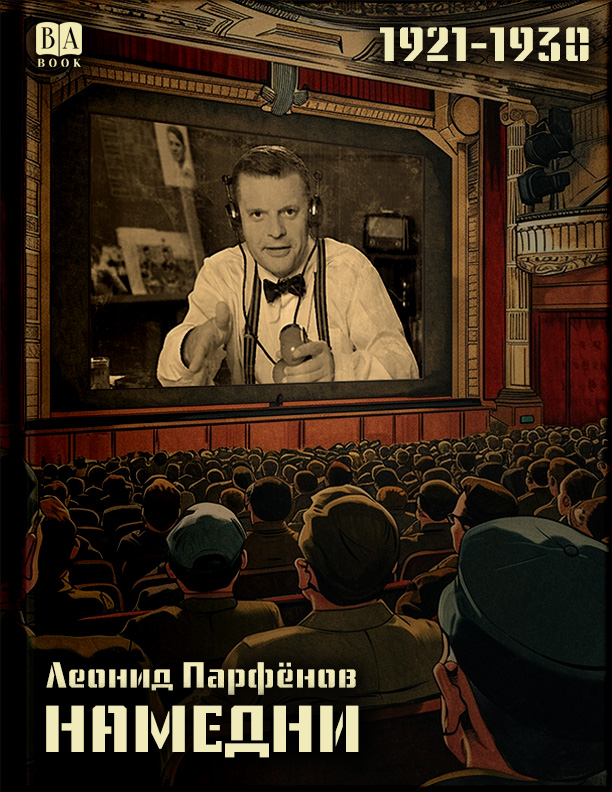МОЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ. БОРИС КАЦ
ПОЭЗИЯ, МУЗЫКА И ПРИМЕТЫ ВРЕМЕНИ
Издатели книги Бориса Каца «Музыкальные ключи к русской литературе: статьи и очерки» (СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге. 2024) предупреждают, что автор избегает в ней импрессионистической эмоциональности, слишком частой в работах на эту тему, опирается же на внимательное изучение всевозможных контекстов: музыкальных, литературных, исторических. Такое предуведомление вполне может насторожить того читателя, которого принято называть «обычным», имея в виду, что он не является докой в музыкальных вопросах.
Однако читателю совсем не стоит настораживаться. Каждая из статей, вошедших в шестисотстраничную книгу, так блестяще сочетает в себе глубину профессионального музыковедческого и литературоведческого анализа с эмоциональной и интеллектуальной точностью, что будет безусловно интересна даже тому, кто не обладает специальными знаниями. О чем эти статьи? Об итальянских зияниях в пушкинской строфе об Одессе, где «все Европой дышит, веет, Все блещет Югом и пестреет Разнообразностью живой. Язык Италии златой Звучит по улице веселой». Или о том, что у Ахматовой «музыка не столько является, сколько отбрасывает мимолетную тень на сказанное в стихах, то более прозрачную, то более плотную». Или о полифонических иллюзиях русских поэтов. Или о «Крейцеровой сонате» Толстого. Или о том, какую музыку слышал во сне Стива Облонский. Или о прыжке Набокова с обрыва романса. Или о «простой гамме» в стихах Бродского. И еще о многом и многом…
Вот, например, автор анализирует стихотворение Бориса Пастернака «Мне по душе строптивый норов...», которое было опубликовано 1 января 1936 года в газете «Известия» и семь заключительных строк которого Пастернак впоследствии никогда не публиковал:
«В этих строках (после предшествующих рассуждений об «артисте в силе» — поэте) шла речь о человеке («не человек — деянье»), живущем «за древней каменной стеной». Стихотворение завершалось так:
И этим гением поступка
Так поглощен другой, поэт,
Что тяжелеет, словно губка,
Любою из его примет.
Как в этой двухголосой фуге
Он сам ни бесконечно мал,
Он верит в знанье друг о друге
Предельно крайних двух начал.
В 1950-х годах Пастернак пояснял, что подразумевал здесь «Сталина и себя» и что эти стихи — «искренняя, одна из сильнейших (последняя в тот период) попытка жить думами времени и ему в тон».
Приведя это свидетельство Пастернака, исследователь задается вопросом, которым не музыковед никогда не задался бы: почему поэт назвал свою связь со Сталиным именно фугой? И объясняет: дело в том, что тема фуги имеет терминологическое название - «вождь», а первая имитация темы называется «спутник». Пастернак, профессионально занимавшийся музыкой, совершенно точно это знал.
«Вождь и спутник (латинские dux и comes) начинали фугу и, как правило, в ней не разлучались, особенно в фуге двухголосной (довольно редкой), - пишет Борис Кац. - Таким образом, называя свои чаемые отношения со Сталиным двухголосной фугой, Пастернак имплицитно называл и функции участников этих отношений: вождь был вождем, а поэт, вторящий ему — спутником».
В финале статьи исследователь делает вывод: «Приведенные соображения могут служить дополнительным штрихом не только к картине использования Пастернаком музыкальных терминов, но и к описанию того специфического типа культуры, в котором даже профессиональная музыкантская терминология, попадая в поэтическую речь, «тяжелеет, словно губка», политическими приметами времени».
Сама структура этих авторских размышлений дает представление о том, какой тип анализа содержит в себе книга «Музыкальные ключи русской литературы».
И это не единственный пример. Так, подробно анализируя стихотворение Мандельштама в статье «Песенка о еврейском музыканте: шутка или кредо? К подтекстам и интерпретациям стихотворения «Жил Александр Герцович...», Борис Кац последовательно, без лакун в рассуждениях, приходит к выводу:
«Высказывание убеждения по жизненно важным проблемам редко облачается в жанр песенки. Однако в данном случае это, кажется, случилось, и использование Мандельштамом избранной метрики нельзя не признать виртуозным. Изложение того «кредо», которое обнаруживается в «Жил Александр Герцович...», разумеется, лишено и малейшего намека на рационалистичность. Перед нами бурный выплеск эмоции, безошибочно устремившийся в русло именно того метра, который позволяет в русской поэзии сочетать комические, патетические и песенные тона с тоном, каким высказываются выстраданные (пусть и не приведенные эксплицитно к логической стройности) убеждения».
Автор избегает и исследовательской схоластики, и ничем не подкрепленных бездоказательных импрессий по поводу творчества того или иного поэта. Этот подход даже не наиболее плодотворен, а единственно плодотворен, он и делает книгу Бориса Каца жгуче интересной для читателя, которому хочется понять основы творчества, как музыкального, так и поэтического, и тонкую между ними связь.