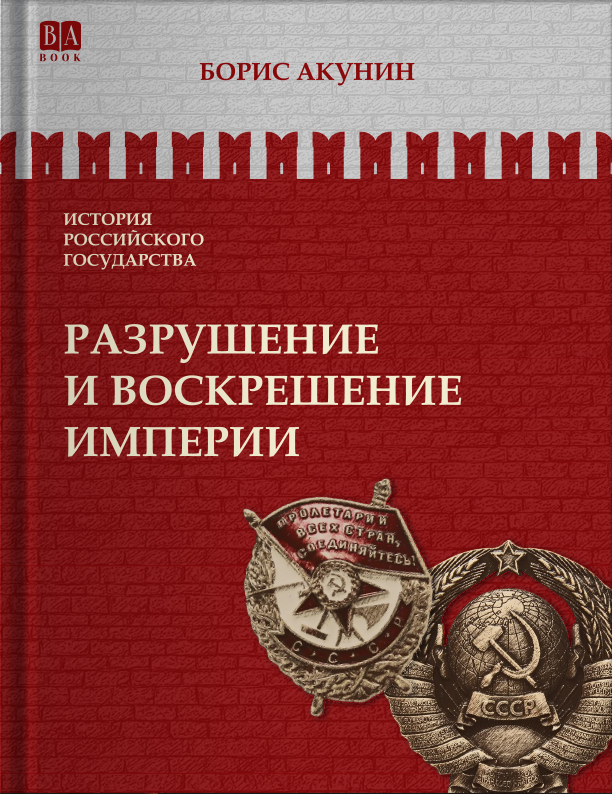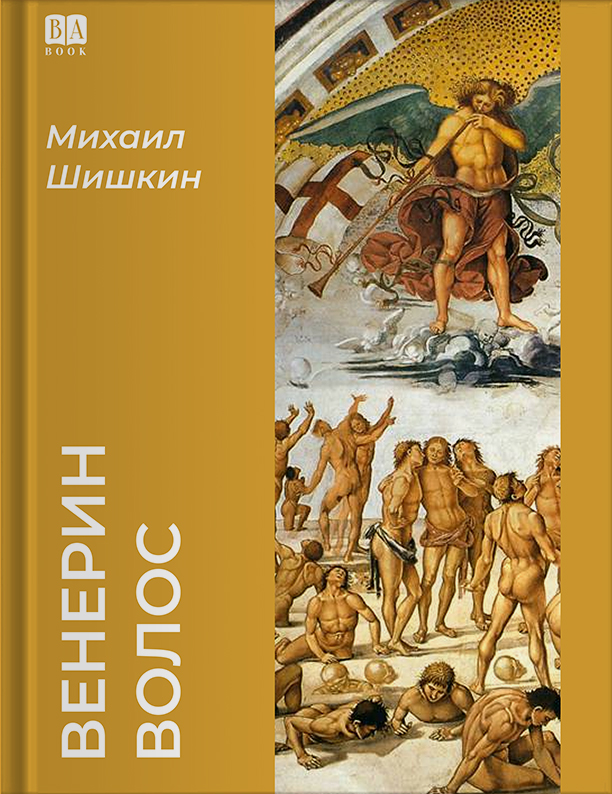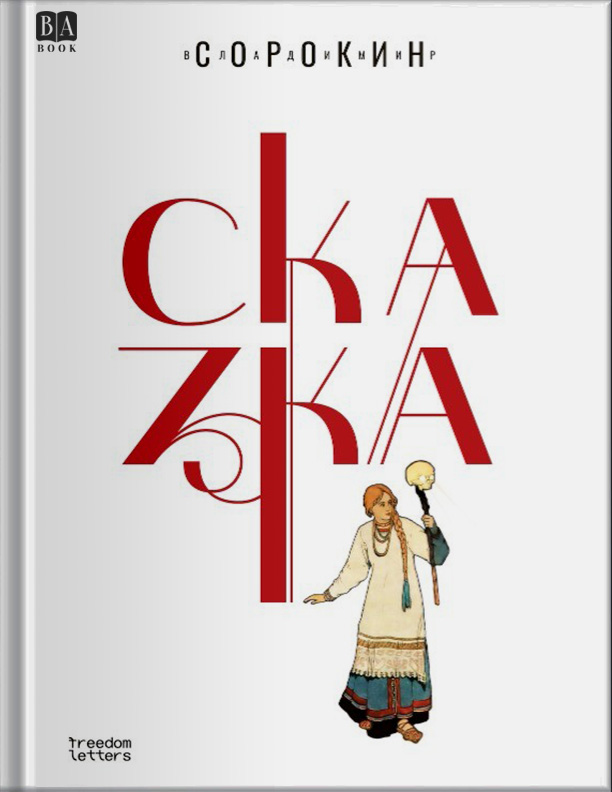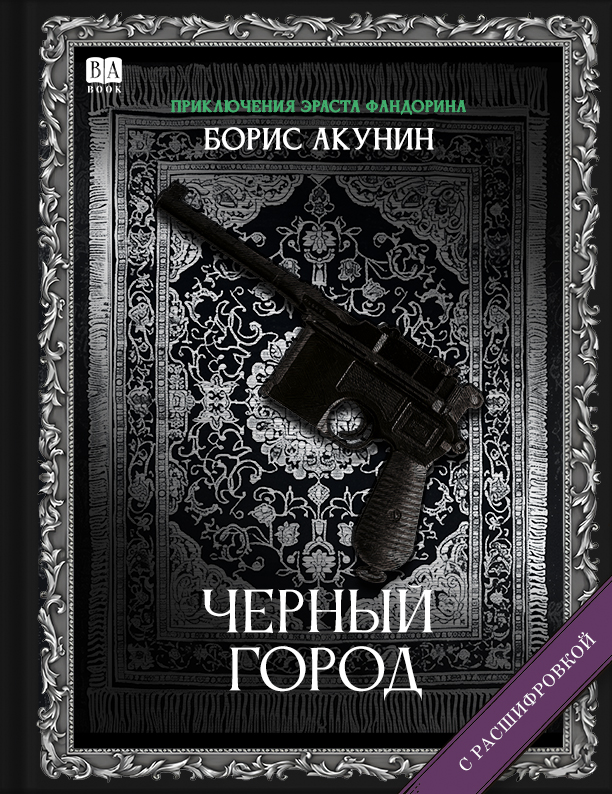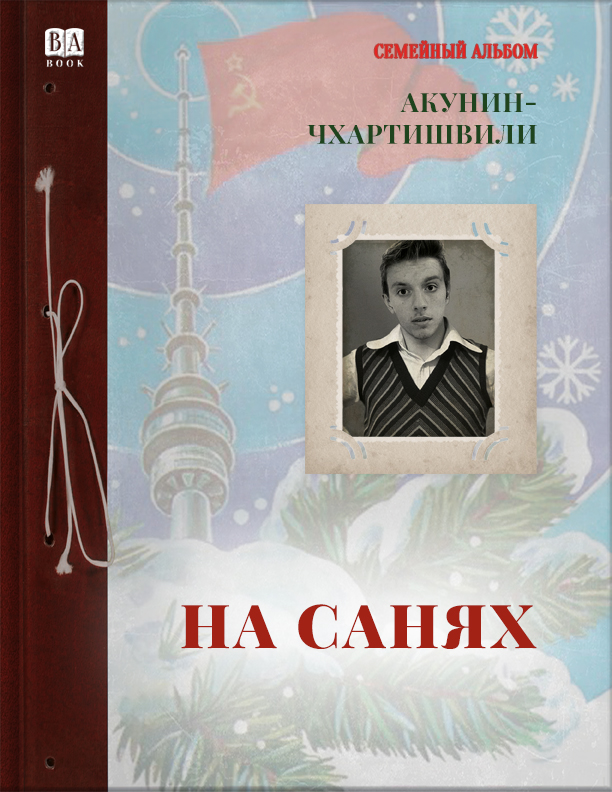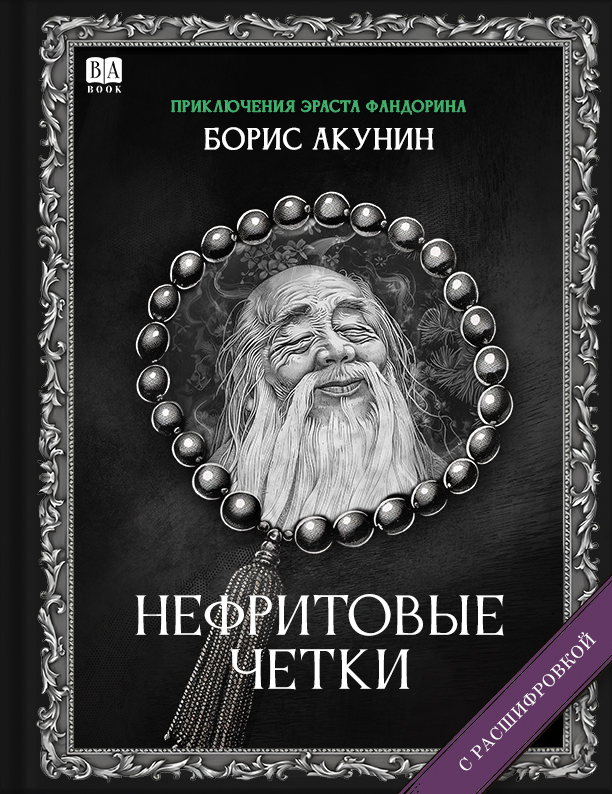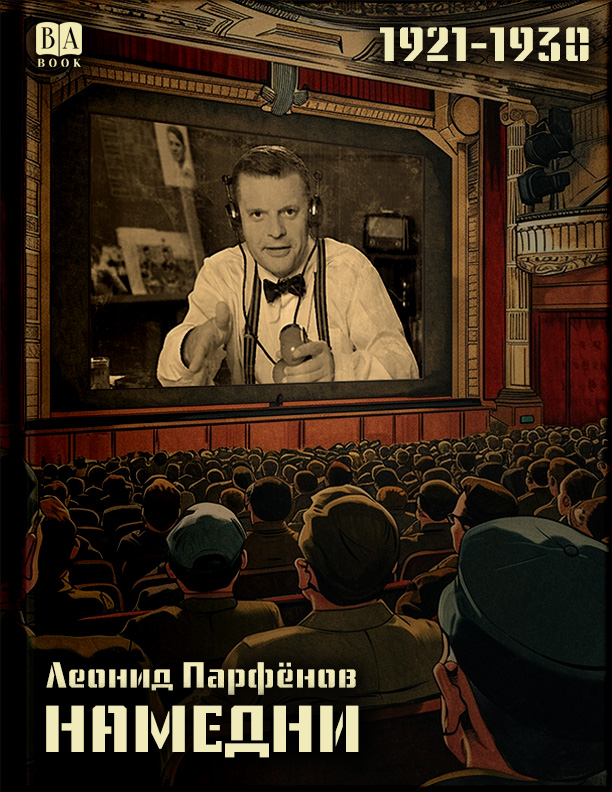Сергей Гандлевский. «Дорога №1 и другие истории»
Мы продолжаем публиковать книгу книгу Сергея Гандлевского «Дорога №1 и другие истории». Книга будет публиковаться долго, больше месяца. Напомним, что эту рубрику мы специально сделали для российских читателей, которые лишены возможности покупать хорошие книжки хороших авторов. Приходите каждый день, читайте небольшими порциями совершенно бесплатно. А у кого есть возможность купить книгу полностью – вам повезло больше, потому что вы можете купить эту книгу и еще три других, поскольку это четырехтомое собрание сочинений Сергея Гандлевского.
Читайте, покупайте, с нетерпением ждем ваши комментарии!
Редакция Книжного клуба Бабук

Общее место
Пленка между жизнью и смертью до ужаса тонка, но абсолютно непроницаема. И, по насмешливому замечанию классика, попытки “первых учеников нашего герметически закрытого учебного заведения” описывать его окрестности вправе вызывать недоверие, а изредка даже неловкость. Например, один мой знакомый, человек вообще-то недюжинный и интересный, почему-то считает себя большим специалистом по загробному существованию и с ревнивым оживлением вмешивается во всякий разговор о смерти, будто смерть – какой-нибудь Подольск, исхоженный этим краеведом вдоль и поперек, и ему невыносимы домыслы и слухи о хорошо знакомой местности. А доводы моего знакомого в пользу бессмертия души – все сплошь истории вроде той, как его покойный отец-профессор, расшалившись в годовщину собственной кончины, обнаружил свое присутствие падением сковород с полок. Стоило умирать, чтобы грохотать ночами кухонной утварью!
Лет тридцать назад по Москве ходила книга Реймонда Муди “Жизнь после жизни”. Автор, американский медик, будто бы записал потусторонние воспоминания людей, перенесших клиническую смерть, и будто бы из рассказов этих следует, что религия права – жизнь продолжается и после жизни. Уверен, что не я один прочел книгу залпом: и тема, скажем прямо, захватывающая, а “тайны гроба” в молодости завораживают и пугают больше, чем в дальнейшем. Есть такой парадокс.
Одна моя приятельница тоже перенесла клиническую смерть. Надо сказать, что человек она на редкость не экзальтированный и немногословный, так что мне, утоляя метафизическое любопытство, пришлось выуживать из нее сведения по крохам. Сперва, рассказывала она, начался подъем в абсолютную темноту, абсолютную тишину и, главное, в абсолютный покой. Приятельница оговаривается, что слова “темнота”, “тишина”, “покой” – самые приблизительные здешние обозначения тех Темноты, Тишины и Покоя, которые ее окружали. И когда я спросил, вспоминала ли она своих близких, грустила ли по ним, она в ответ отрешенно покачала головой и сказала, что я все-таки не вполне понял, что имеется в виду: тот невообразимый покой в принципе исключал возможность каких-либо чувств еще. Врачи между тем делали свое дело, и душа ее встрепенулась для возвращения. И тогда моей приятельнице пришлось мучительно припоминать устройство этого мира, причем в подробностях, – чтобы вернуться именно туда, откуда она родом: наружный вид дерева – корни, ствол, ветви, листва; внешность человеческого существа – руки, ноги, туловище, голова. И т. п. Так, складывая паззл, методом проб и ошибок добиваются знакомых очертаний.
Возражения против подобных свидетельств понятны и лежат на поверхности. Очевидцы, к счастью, остались в живых, а значит, эксперимент нечист. Ни на чем не настаивая, воспользуюсь этими историями для кое-каких предположений, на которых, разумеется, тоже не настаиваю: больно уж темен предмет разговора.
Даже если жизнь после жизни существует, тамошние эмоции, вполне возможно, имеют мало общего со здешними переживаниями, а значит, одна из главных надежд человека – на загробную счастливую встречу и покаянное объяснение – может не состояться... просто за ненадобностью.
И второе: отсюда, изнутри, наш мир выглядит единственным и всеобъемлющим, но оттуда, извне, в него, по воспоминаниям моей знакомой, не так-то просто вернуться: надо хорошенько вспомнить устройство “вселенной назначения”, иначе можно угодить в совсем незнакомое место вроде как шахматной фигуре на футбольное поле... Кажется, это предположение не противоречит гипотезам некоторых современных физиков.
* * *
Уже давно в так называемом цивилизованном мире метафизика пущена на самотек: свобода совести – один из столпов демократического общества. Каждый выбирает вероисповедание, бога и способ загробного существования по своему вкусу. Многие вообще предпочитают не верить ни в бога, ни в черта. (В молодости я думал, что религиозность необходима человеку, особенно творческой профессии, хотя бы как свидетельство силы его воображения. Сейчас я думаю, что ответственный атеизм требует воображения не меньшего).
В нынешней метафизической вольнице что-то есть. Но не только хорошее. За свободу веры (или неверия) люди расплачиваются полным одиночеством с его отчаянием, но чаще – инфантилизмом до седых волос. Человеку вообще свойственно откладывать мысли о персональной смерти “на потом”. Но в развитых странах, где немало сил и средств вкладывается в облегчение и облагоображивание старости и смерти, вплоть до эвтаназии, а идею личного бессмертия потеснил культ опрятного и дееспособного долголетия, безмятежное отношение к собственной гибели подпитывается и поощряется самим положением вещей. Вот как характеризует Лев Рубинштейн такое мироощущение: “Цивилизованный мир живет не страстями. Для страстей существуют специально отведенные места вроде искусства, спорта и экстремального туризма... Он хочет спокойствия, и он спокойствия заслуживает”. Я там не жил по-настоящему и не мне судить. Но убожество и бытовая теснота советской жизни (в какой-то мере и нынешней, российской) против воли рано и неплохо вразумляли: на наших глазах старились и умирали соседи, бабушки и дедушки, родители. Трагедия не стеснялась и не прикидывалась исключением из правила, печальным недоразумением. Похоронный оркестр не реже раза в месяц оглашал окрестные дворы хриплым воем “memento mori”, только по-русски. Речь не об ущемлении прав трагедии: она с эпическим размахом и равнодушием, будь то Швейцария или Северная Корея, “топит в пропасти забвенья народы, царства и царей” и каждого прибирает к рукам в свой срок, – речь о нас, об осознании “размера потери”, который, по словам И. Бродского, только и “делает смертного равным Богу”.
* * *
Я, понятное дело, боюсь смерти, но люблю кладбища. Осень, элегически шуршит листва, короткий ясный день клонится к закату. Бродишь один-одинешенек, бормочешь вопиющие банальности, вроде “все там будем”, но чувства испытываешь самые нешуточные... Можно не принадлежать ни к какой конфессии или вообще быть атеистом, но священные тексты лучше всего выражают эти нешуточные чувства, точно и возвышенно формулируют общие места расхожей кладбищенской риторики: “Мы умрём и будем как вода, вылитая на землю, которую нельзя собрать...” (Вторая книга Царств. 14:14).
В конце-то концов, главный вопрос загробного существования души – вопрос непрерывности индивидуальной памяти. Ведь если душа не умирает, но начисто забывает о своей прошлой земной жизни, чем это не бесповоротная личная смерть?!
* * *
Один довод в пользу смерти (будто она нуждается в чьей-либо защите!) Человек, таков, каков он есть на сегодняшний день, не рассчитан на вечную жизнь – и не только физически, но и духовно. Мы несовершенны: наши способности к развитию конечны, и наше внутреннее содержание небезгранично. Кто когда, но рано или поздно все мы ловим себя на повторах: мыслей, чувств, жизненных ситуаций. Короткий человеческий век предохраняет нас от пресыщения и, в итоге, от отвращения: сперва, по слабости нашей и эгоизму – к другим людям и, собственно, к жизни, а потом, по честном размышлении – к самим себе. В нашем нынешнем духовном состоянии бессмертие стало бы для нас мукой мученической. Даже чрезмерно долгий век бывает для человека наказанием, о чем и сказал поэт Петр Вяземский:
Жизнь так противна мне, я так страдал и стражду,
Что страшно вновь иметь за гробом жизнь в виду;
Покоя твоего, ничтожество! я жажду:
От смерти только смерти жду.
Вот бы нам уходить, как библейский Иов, “насытясь днями”, а после – исчезать навсегда, или претерпевать духовное обновление, без которого жизнь после жизни не в радость...
Какие-то художественные догадки о смерти кажутся особенно удачными. На меня сильное впечатление производит абзац из “Подлинной жизни Себастьяна Найта” Набокова: “Самый неподатливый узел – это только перевитая веревка <...> Глаза развязывают его, пока кровоточат неловкие пальцы. Он (умирающий) и был этим узлом, он развязался бы сразу, сумей он увидеть и выследить нить. И не только он сам, распутано было бы все-все, что он мог представить в наших детских терминах “пространство и время”, которые оба – загадка, так и выдуманные человеком, как загадки, и в этом виде возвращающиеся к нам: бумеранги бессмыслицы....Теперь он уловил нечто подлинное, ничего не имевшее общего с какими бы то ни было мыслями, ощущеньями, опытом – со всем, чем обладал он в детском саду жизни...”
Заветная мечта многих: занавес жизни опускается, и мы, томясь и ликуя, постигаем смысл и пафос оконченной “пьесы” и назначение сыгранной нами “роли” ... Но все это – лишь “угадайка”, более или менее талантливая, игра ума и сотрясение воздуха для достаточно здоровых людей. Перед лицом настоящей смерти во всем ее кромешном одиночестве, ужасе и безобразии лучше всего умолкнуть, хотя бы на ритуальную минуту. Чтобы потом снова взяться за домыслы и гадания. Природа наделила нас бесценным даром – легкомыслием, чтобы нам все-таки жить-поживать, а не цепенеть ежеминутно от ужаса.
* * *
Как бы высоко кто-нибудь ни мнил о себе, но, если он не вовсе болван или безумец, его нет-нет, да посещает вроде бы безнадежная мысль, что мир, со всеми его концами и началами, не умещается в его черепной коробке. (Я бы и врагу не пожелал один-единственный денек пожить в мире, смысл и устройство которого в ладу с моим разумением: наглядные причинно-следственные связи, казарменные симметрия и справедливость – и прочие унылые прелести...) Мысль о маломощности человеческого рассудка только с виду грустна и безнадежна: она – залог самых невероятных упований... в том числе и на смерть.
Кажется, Филиппу Ларкину принадлежит необычное и глубокое определение храбрости: "Быть храбрым – значит не пугать других". Хорошо бы и впрямь не запугивать друг друга, а по мере сил поддерживать в себе и окружающих бодрость духа.
2010
Купить книги Сергея Гандлевского
Том I | Том II | Том III | Том IV