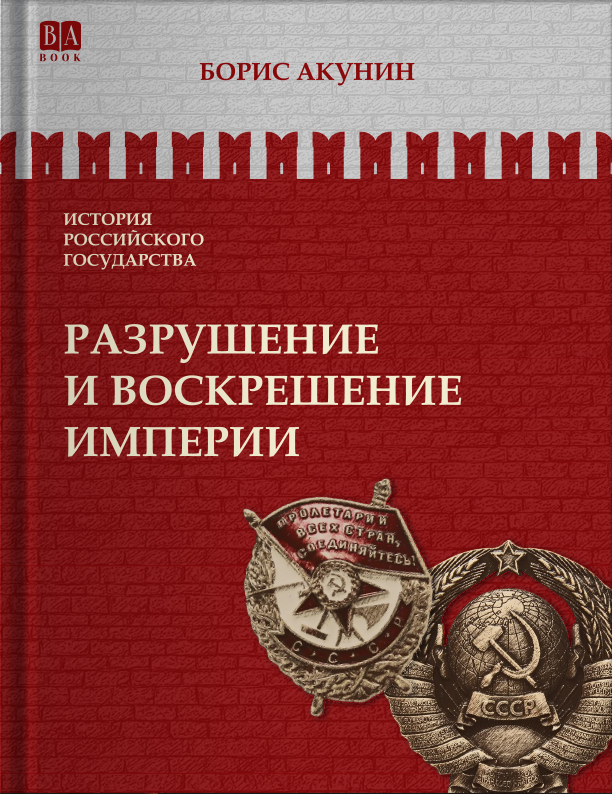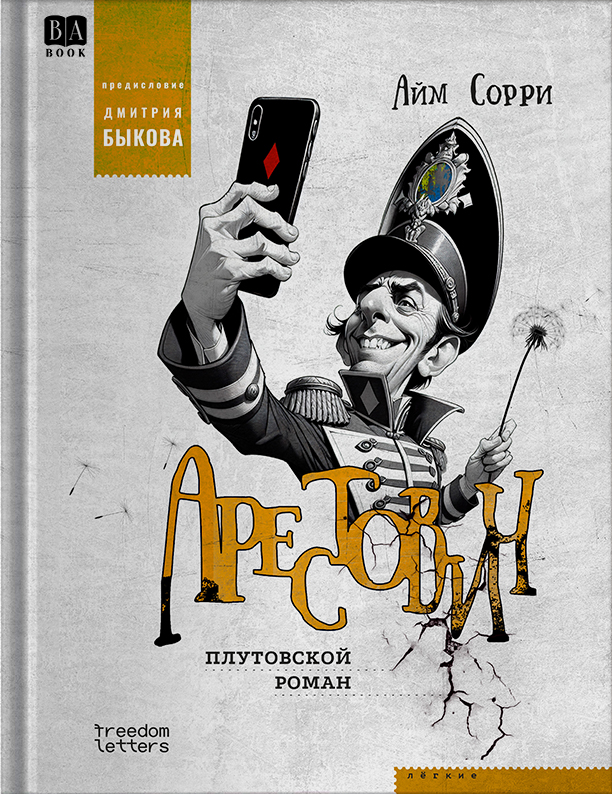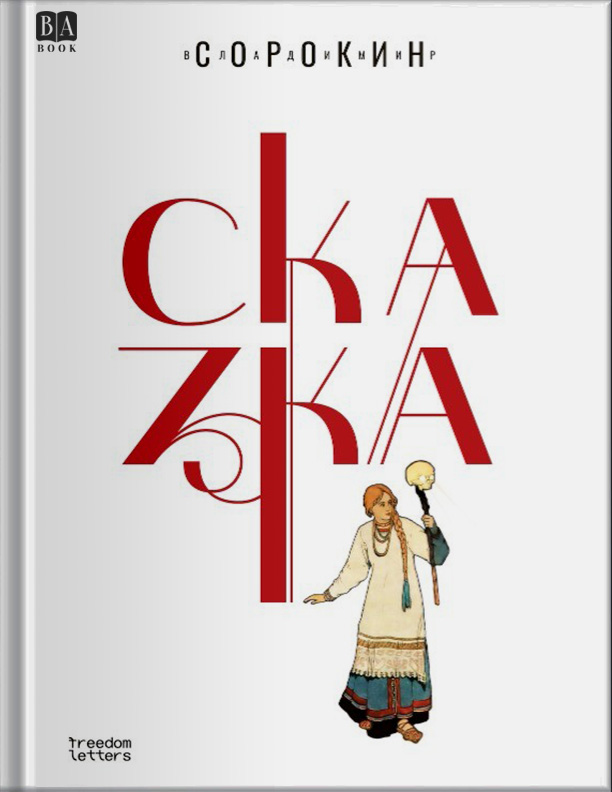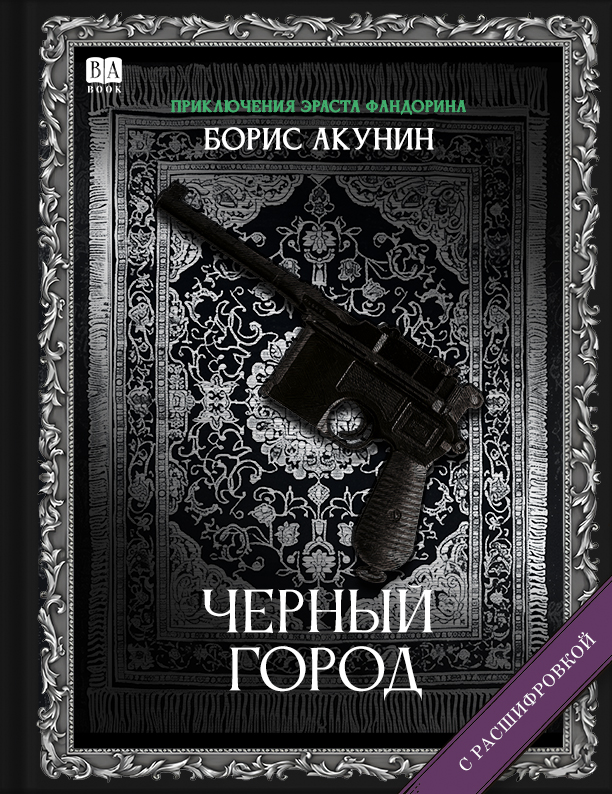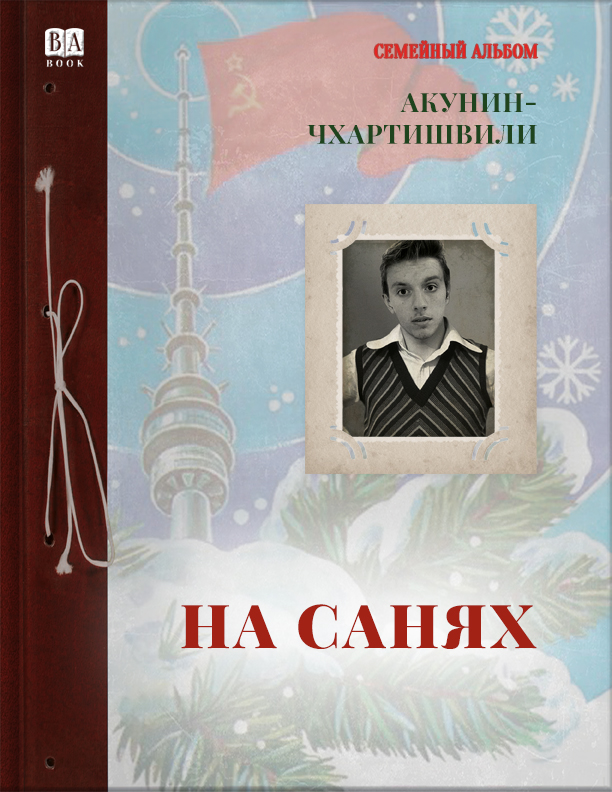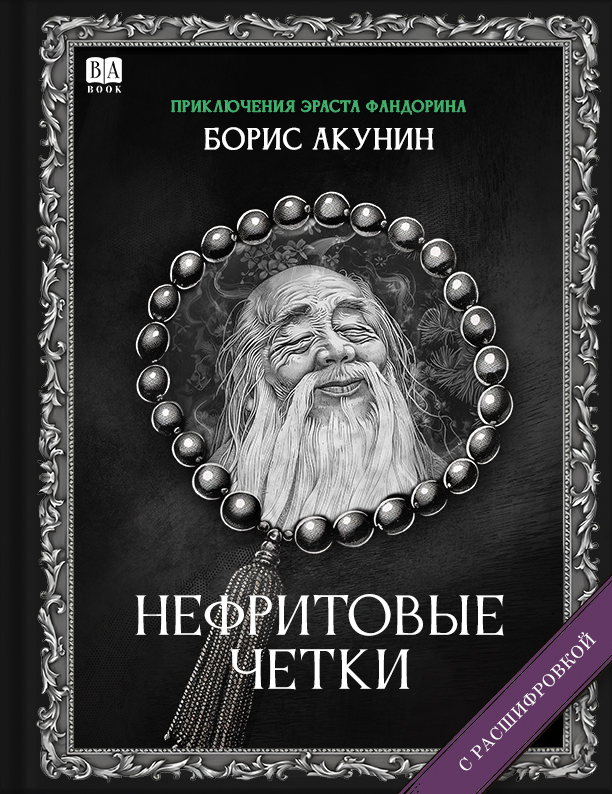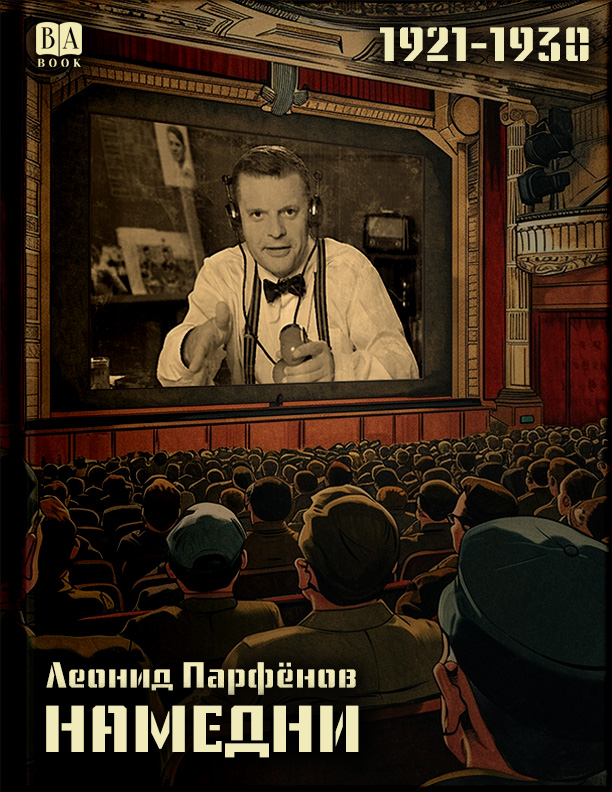Сергей Гандлевский. «Дорога №1 и другие истории»
Дорогие читатели!
Мы продолжаем публиковать книгу книгу Сергея Гандлевского «Дорога №1 и другие истории». Книга будет публиковаться долго, больше месяца. Напомним, что эту рубрику мы специально сделали для российских читателей, которые лишены возможности покупать хорошие книжки хороших авторов. Приходите каждый день, читайте небольшими порциями совершенно бесплатно. А у кого есть возможность купить книгу полностью – вам повезло больше, потому что вы можете купить эту книгу и еще три других, поскольку это четырехтомое собрание сочинений Сергея Гандлевского.
Читайте, покупайте, с нетерпением ждем ваши комментарии!
Редакция Книжного клуба Бабук

Гений одиночества
...Стихи стихами, но от поэта остаётся ещё и манера авторского поведения. И здесь, думаю, Бродский оказал поэтическому цеху большую услугу. Теперь есть прецедент абсолютной независимости.
Поэты “золотого” века в жизни прежде всего были мужами – недаром им и сановниками случалось бывать (Державин – Грибоедов – Тютчев). “Творческое горение”, “одержимость” поэзией считались не очень приличными для мужчины и светского человека. Литературные занятия подавались любопытствующим как частное дело, причуда, плод праздности. (Первый сборник избранных произведений Карамзина так и назывался – “Мои безделки”.) У этой позы была одна бесспорно сильная сторона: раз поэзия, в соответствии с цеховым этикетом, – дело несерьёзное, то поэт не имеет права требовать от общества участия, внимания, заботы. Как отзовётся слово, предугадать не дано, хвалу и клевету принимать следует равнодушно, писать для себя – печатать для денег. Всё это, вместе взятое, – не что иное, как манифест независимости. Позже эту симпатичную и целомудренную приватность изрядно потеснила идея общественного служения, обязанности быть гражданином. Поэзия становилась ответственным громоздким делом.
Двадцатый век – “серебряный” – увлёкся поэтом-дервишем, поэтом пророчествующим, блаженным и бесноватым одновременно. Сохранить личину несерьёзного отношения к поэзии при взятой на себя провидческой сверхзадаче, понятное дело, не удалось. А раз поэт не повеса, не губернатор, не помещик, – словом, не дилетант, а жрец – он просто обязан быть в центре общественного внимания. Он вещает – общество внимает. Завышенная самооценка, рост общественного внимания привели исподволь к закабалению поэта, чему поэт и не противился: сознание собственной значимости лестно. (Революция себе во благо попользуется новой влиятельностью поэта, взяв его в оборот.) Парадоксальным образом поэт-любитель был независим, а поэт-вещун попал в зависимость и привык к ней. Поэтому отлучение от общества воспринималось как трагедия и ущерб. И реагировали поэты на кару отлучения в меру своего темперамента по-разному, но всегда болезненно. Цветаева то с надрывом – “поэты-жиды”, то с агрессией, как в “Поэме горы”, где она обрушивается с проклятьями на ни в чём не повинных дачников. Пастернак винится, оправдывается: разве “я – урод”, “разве я не мерюсь пятилеткой?”; впадает в ересь простоты и пишет “Доктора Живаго”; с профессорской близорукой восторженностью отнимает у метростроевской тётки отбойный молоток; с экзальтированным обожаньем отверженного косится на попутчиков в электричке – баб, слесарей, пэтэушников. Мандельштам своё справедливое уныние осуждает, как ропот малодушия, предательство славных идеалов: “Не хныкать – для того ли разночинцы / Рассохлые топтали сапоги?..” Но и в злости своей, и в искательности, и в унынии поэты чувствуют – отверженность. Им хочется “задрав штаны, бежать за комсомолом”, а их не берут, а если берут, то на одном условии: строить срубы, чтобы опускать туда “князей на бадье”, искать топорище “для казни”.
(На примере процитированного выше стихотворение “Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма...” особенно видна чужеродность Мандельштама советской поэзии. Когда советский поэт искал расположения властей, он, казалось, говорил: вы правы и дело ваше правое – возьмите в компанию. У Мандельштама совершенно другой пафос: я доведен до крайности и готов быть с вами заодно, душегубы. В одном случае – расчетливая ложь или самообман, в другом – надрыв изгоя.
Знакомый рассказывал, что в Гамбурге на Reeperbahn видел на стене среди отпечатанных в типографии блядских визитных карточек тетрадный лист, на котором от руки печатными буквами было написано по-польски: “Согласна на всё за билет до Варшавы”. Вот и Мандельштам “согласен на всё...”)
Бродский считал, что он преемник “серебряного” века. Насколько это верно для его стихов, я судить не берусь, но вёл он себя в культуре прямо противоположным образом. Он запретил себе даже думать о “читателе, советчике, враче”. Ему было дорого его принципиальное и абсолютное отщепенство. Собственная отверженность воспринималась им не как трагедия, а как трагическая норма бытия. Он сказал: “Одиночество есть человек в квадрате” и оставил за каждым из нас – и поэтов и непоэтов – право на исключительность такого рода. Он вернул образу русского поэта утраченную им в начале века независимость. И теперь каждому, кто затоскует, желая быть понятым родной страной, можно кивнуть на Бродского: вот, не затосковал же...
1996
Купить книги Сергея Гандлевского
Том I | Том II | Том III | Том IV