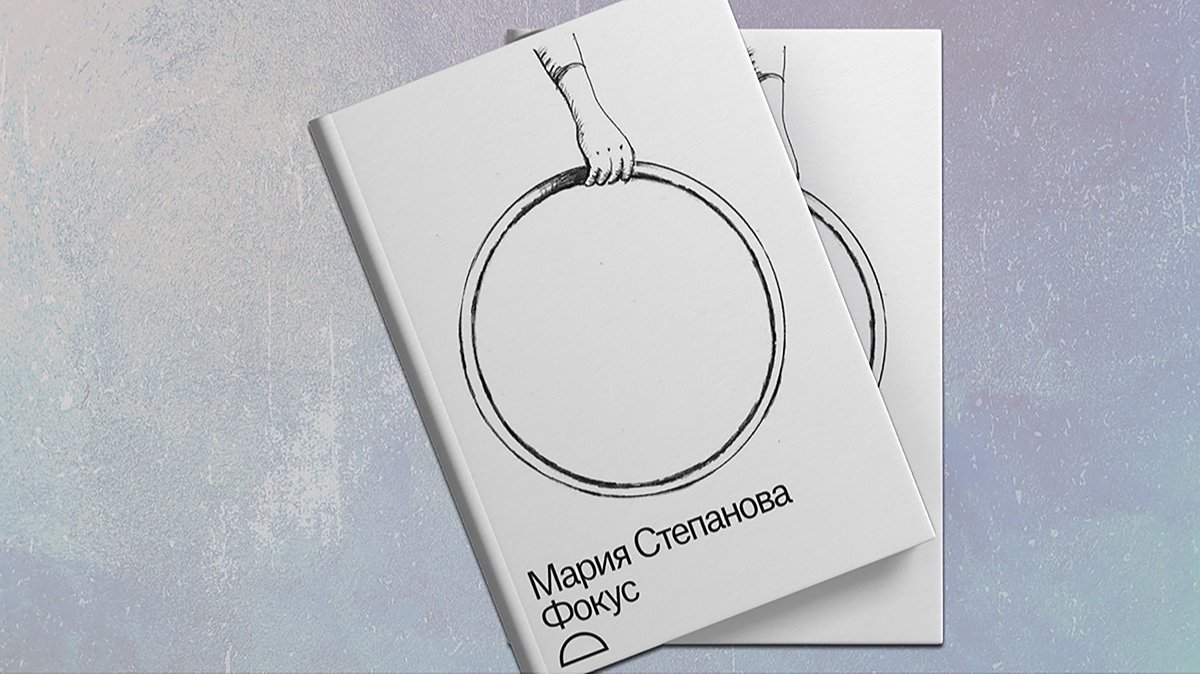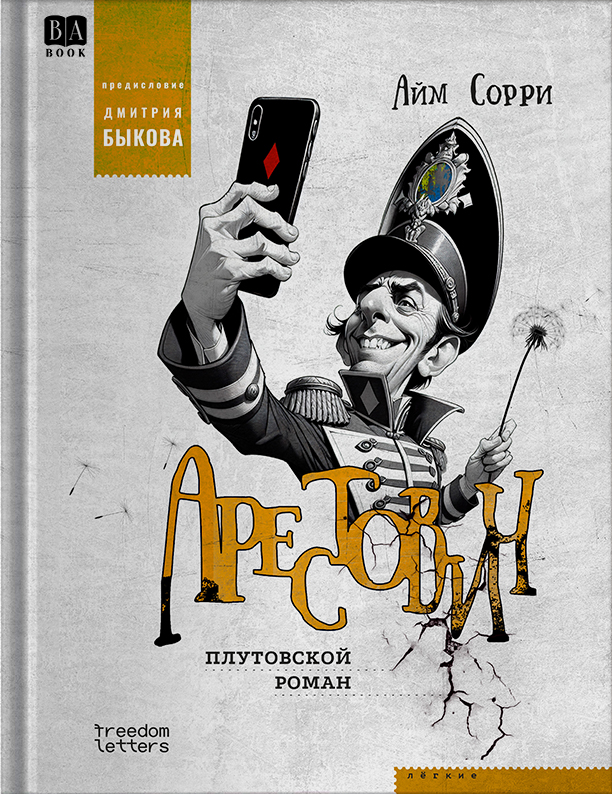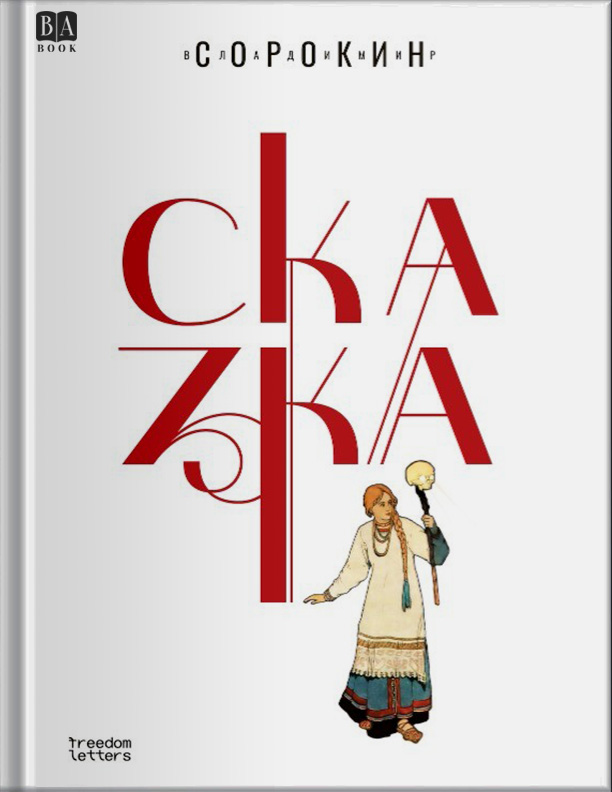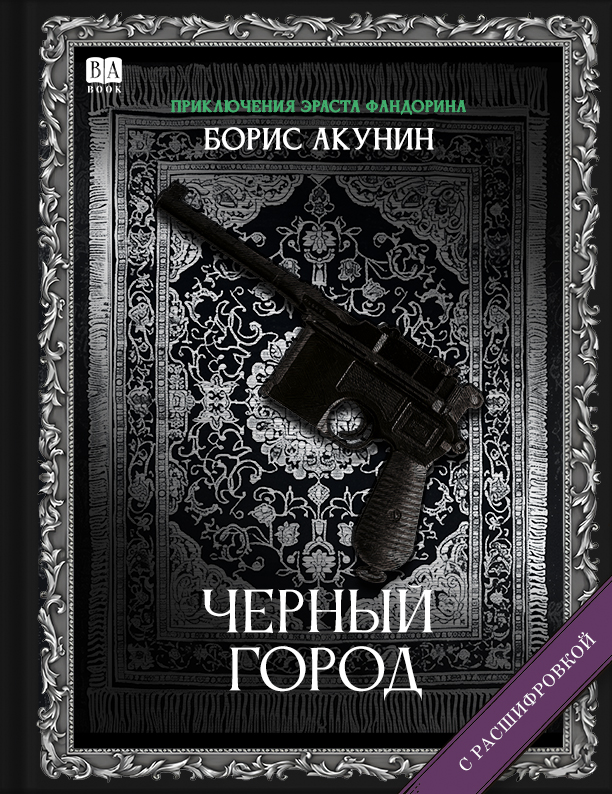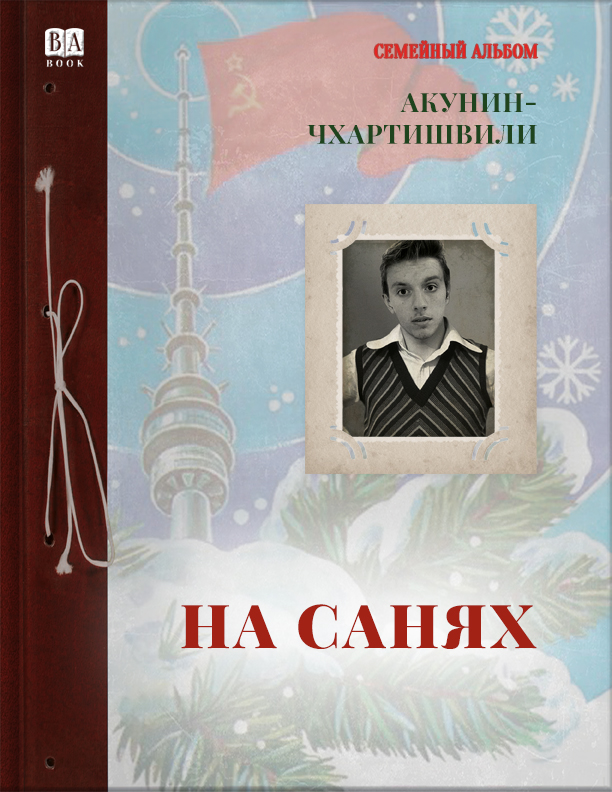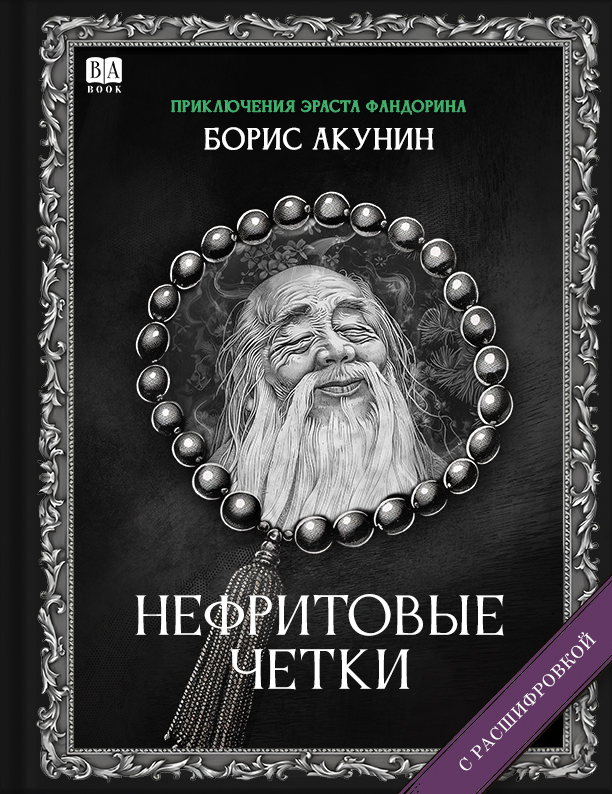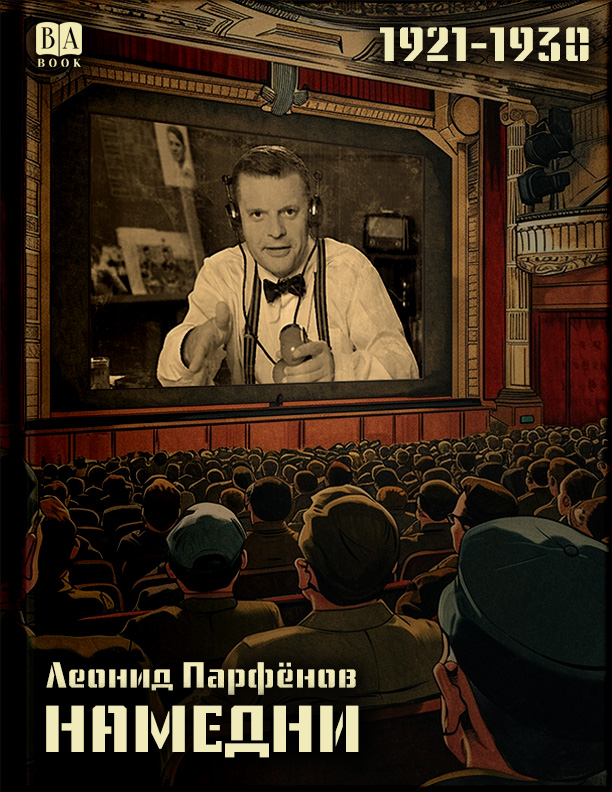МОЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ. МАРИЯ СТЕПАНОВА
НЕВИДИМА И СВОБОДНА. МОЖЕТ БЫТЬ
Новая повесть Марии Степановой «Фокус» (Проект «24»: «Новое издательство» (Россия), «Бабель. Книги. Тель-Авив» (Израиль), Interbok (Швеция), Liberty Books Lisbon (Португалия), Common Ground Books & Spirits (Армения), Babel Books Berlin (Германия) по видимости повторяет повествовательную манеру ее книги «Памяти памяти». Тот же традиционный автофикшн - внимательное исследование собственного внутреннего состояния, подробное его фиксирование и размышление о нем в контексте прошлого и настоящего. В этот раз еще и с подчеркнутой в первой же строке отсылкой к классической русской литературе: «Летом 2023 года трава продолжала расти как ни в чем не бывало: будто так и надо, росла она, трава, словно имела в виду лишний раз показать, что, сколько бы ни убивали на поверхности земли, она намеревается упорствовать в своем желании из этой земли высунуться».
Стилистика и на протяжении всего текста остается такой же, «под XIX век», и многочисленные современные реалии прекрасно с ней совпадают. Но вот смысл происходящего, все отчетливее проступающий по мере того как разворачивается повествование, ничего не имитирует и полностью меняет читательское представление о том, чего следует ожидать от уже знакомого автора.
Сама же героиня, писательница М., сразу сообщает, что уже не ожидает от себя даже того, «что вместе с глотком вина во рту окажутся слова, пригодные для новой жизни». Героиня эта живет в чужой стране, потому что бежала из своей страны, напавшей на соседнюю страну, и видит, и сознает, что ее «довоенная жизнь, какой бы она ни была, перестала хоть что-нибудь значить и только маскировала твое родство со зверем, продолжающим жрать». Мария Степанова не называет упомянутые страны - Германию, Россию, Украину - не потому что делает из этого тайну, а, вероятно, потому что видит ситуацию как архетипическую. И кто она в этой ситуации, и как ей относиться к себе? Ведь «несмотря на годы, проведенные в брезгливой ненависти к зверю, она жила с ним сколько себя помнила, то ли в одной клетке, то ли у него в брюхе, как Иона во чреве китовом, и почти не знала времени, когда зверя бы не было рядом. Не могло ли это означать, что она была его порождением, его уменьшенной копией – одной из миллионов тех, кто на вид грустен и нежен, но только и ждет минуты, чтобы выпустить когти и зубы и сожрать того, кто не ответил тебе взаимностью?».
При этом, вне зависимости от самооценки, М. явственно ощущает, что писательницей она больше быть не может. Не в последнюю очередь вследствие того, как стала воспринимать родной свой язык:
«Кем бы она ни была теперь, кое-что неизменное в ее жизни имелось: стоило начать шарить в уме в поиске хоть каких-нибудь слов, М. чувствовала, что во рту у нее полуживая еще мышь, и выплюнуть ее никак не удавалось – она шевелилась, зажатая между зубами, и надо было то ли сжать челюсти, с хрустом перекусив ее пополам, то ли так и жить дальше с мышью во рту, ни о чем другом не думая. Так и получилось, что писательница М. больше не могла делать ничего полезного и даже разговоры разговаривала сквозь беззвучное попискивание мыши, борясь с подкатывавшей тошнотой и цепляясь за ручки кресла, в котором сидела. Все, чем она занималась теперь, сводилось к чтению военных сводок и новостей, каждая из которых была хуже предыдущей, там шел счет убитым и оставшимся без крова, дети и собаки сидели в бомбоубежищах на чьих-то пальто и куртках, на замусоренной земле стояли дома с выжженным нутром и старухи, не знавшие, куда им теперь идти, а М. все сидела».
Этот язык, «гибкий, выворотный, почти всемогущий», вызывает у нее теперь недоверие: «Кто знает, что говорили на нем в эту секунду ее соотечественники, отправившиеся воевать в соседнюю страну, и кого и как в эту самую секунду убивали. Она все еще была убеждена, что дело было именно в звере, а люди просто слишком долго пробыли в воздухе, отравленном его дыханием, и постепенно ему уподобились или, проще говоря, озверели. С языком, который был гораздо старше зверя, все было сложней – но и он вдруг покрылся подозрительной слизью, бугрился гноящимися наростами, в нем появились слова располога, мочканули и мирняк, он как будто одичал и не узнавал своих домашних. М. и самой не хотелось бы сейчас к нему прикасаться, она выжидала».
Впрочем, сам по себе язык она не обвиняет: «Навряд ли дело было в том, что ей стал не мил родной язык, в общем-то невинный: беззащитный до такой степени, что кто угодно мог обвешать его гадкими бубенчиками и заставить, выделывая коленца, подражать поведению зверя. В конце концов, как знала М., такое случалось с ним не в первый раз, и не только с ним, другие языки тоже несли на коже и под кожей кровоподтеки, рубцы, зазубренные куски металла, следы того, как обращались с ними прежние хозяева. Нет, стыдить язык было бессмысленно, да и несправедливо, скорее имело смысл предъявлять счет себе, но М. не делала и этого – верней, счет приходил к ней без всякого ее участия, как той женщине, которой еженощно приносили платок, каким она задушила когда-то своего младенца, и по этой настойчивости можно было догадаться, что живет она в аду. М. никогда не имела со зверем ничего общего, по крайней мере, так ей раньше казалось, но поскольку зверь, судя по всему, ширился в размерах и состоял уже изо всех тех, кто жил когда-то на территории страны, откуда она была родом и где совсем недавно засыпала и просыпалась, а еще изо всех, кто говорил и писал на языке, который она считала своим, то именно она, получается, и была зверем. То есть она, конечно, была собой, но и зверем тоже, то собой, то зверем, и иногда замечала в лице или плечах собеседника что-то вроде содрогания, говорившего о том, что именно зверя они видят в ней в первую очередь. И переменить тут было, кажется, ничего нельзя – даже тем, не ей чета, людям, которые, такие маленькие, когда смотришь на них издалека, смело выходили вдруг на зверя с голыми руками. Непонятно почему, сожрав их, зверь становился от этого только больше, только сильнее; а их отвага воодушевляла и обнадеживала соотечественника ровно до того момента, когда героев с хрустом съедали, превращая их в часть общего организма, что-то вроде наглядного пособия, живой картины, мертвой уже натуры, убеждающей в том, что надежды нет. Получалось, что единственным способом от зверя избавиться было избавиться от себя самой или хотя бы заткнуться раз и навсегда, чтобы не сказать по оплошности что-нибудь его голосом. И хотя в теории М. нашла бы, что возразить на эту нехитрую мысль, ее руки и тело, не говоря уж о языке, молчали теперь, как будто были совершенно согласны, что говорить не надо».
Одним словом, писательница М. перестала быть тем, кем была всю жизнь, но никем другим не стала и даже не представляет, кем могла бы стать. Это для нее отнюдь не вопрос жизнеустройства, в житейском смысле у нее все хорошо: достойная страна дала ей приют, окружающие по-прежнему считают ее писательницей, говорят, что ситуация ее и ее страны может быть творчески плодотворной, и приглашают на встречи с читателями, потому что ее книги продолжают активно переводиться в разных странах. Но что ей делать с необратимой переменой, которая произошла у нее внутри вследствие катастрофы, которую язык не поворачивается назвать внешними обстоятельствами?
И вот тут Мария Степанова совершает то, что и выводит ее новый текст за пределы ожиданий, определяемых текстом прежним: превращает метафору перемены в сюжетообразующее событие. Прием не то чтобы новый - он отсылает к «Воскресению» Льва Толстого так же, как первые строки повести «Фокус». Однако Степанова вряд ли и стремится именно к оригинальности приема. Вероятно, он имеет для нее главным образом функциональное значение.
Так это или нет, но писательница М. исчезает из мира, к которому она уже худо-бедно привыкла. Исчезает из собственной социальной, а потом и внешней оболочки. Все это в самом деле происходит не метафорически, не условно, а буквально и имеет вполне житейскую подоплеку: писательница М. не смогла добраться до места встречи с читателями вследствие отмены поезда, потом произошла путаница с такси… И она наконец шагнула навстречу новой жизни, сделавшись - точнее, сделав себя - невидимой и свободной.
Эта новая жизнь оказывается не дискомфортной - Принцу не приходится примерять на себя участь Нищего, - но непредсказуемой. Собственно, вся она теперь являет собою одну сплошную непредсказуемость, которую М. воспринимает не просто как должное, но с готовностью и с радостью - в той мере, в какой она теперь вообще может испытывать радость. Уже и имя поменяла - теперь она А., просто А.
Однако Мария Степанова отказывается что-либо закреплять в своей художественной действительности, суть которой как раз и составляет незакрепленность всего и вся. Стоит только читателю привыкнуть к цепочке непредсказуемостей и втянуться в ожидание очередного лихого поворота, как эта цепочка обрывается - без причины, вне уже вроде бы установившейся повествовательной логики, буквально на полуслове, провоцируя естественное читательское восклицание: «Как - и это всё? А что же дальше?».
А никто не знает, что дальше. И Мария Степанова не пытается делать вид, будто знает. Если бы все было так просто! Выйти из электрички в незнакомом городе, оставить телефон и чемодан в случайном отеле, наняться на необычную работу в необычном учреждении… Жизнь не окажется к нам так милостива, - говорит писательница Мария Степанова. - Она не даст нам так быстро ни экстравагантных, ни каких бы то ни было других подсказок, которые позволили бы нам легко справиться с поселившимися у нас внутри ужасом и чувством причастности к преступлению.
Но героиня «Фокуса» делает первый шаг в неведомое. Может быть, это шаг в бездну. А может быть и нет.