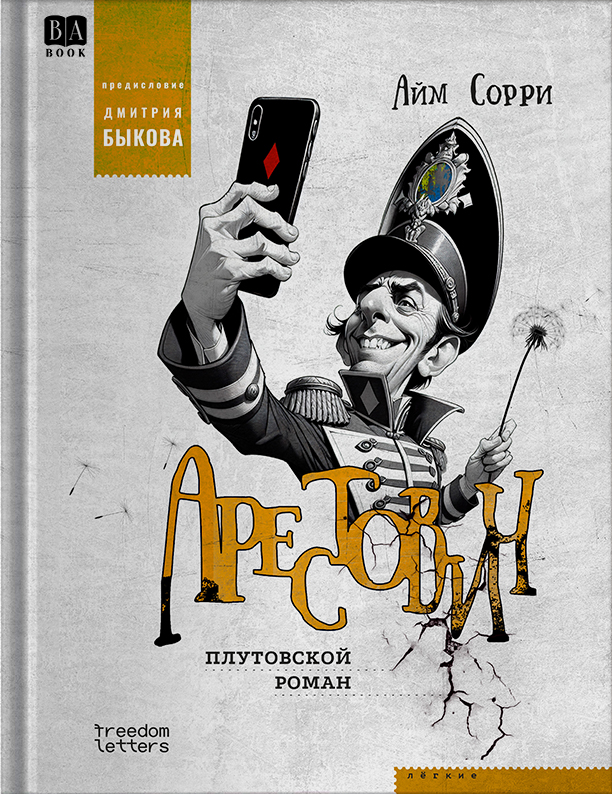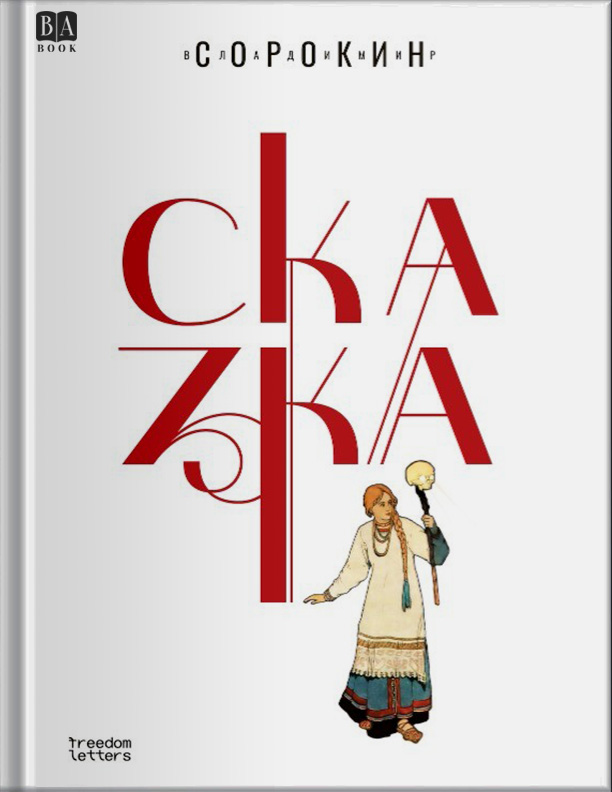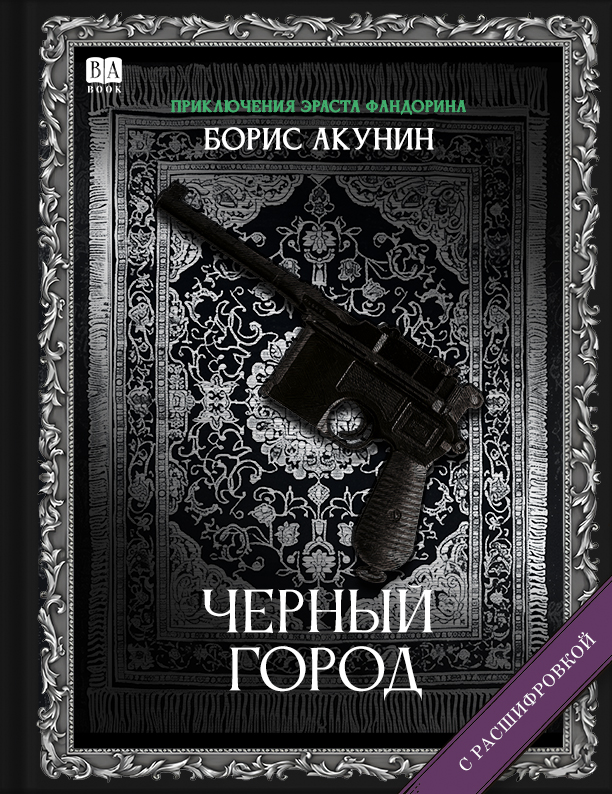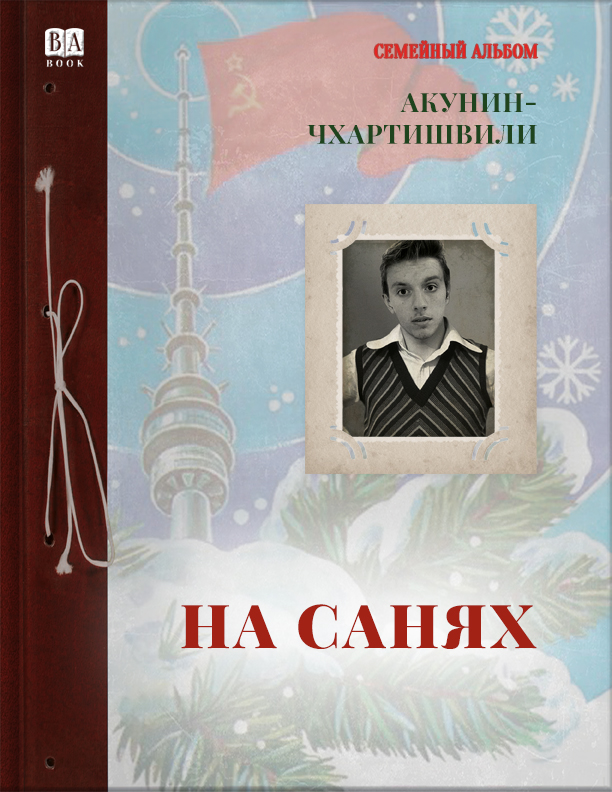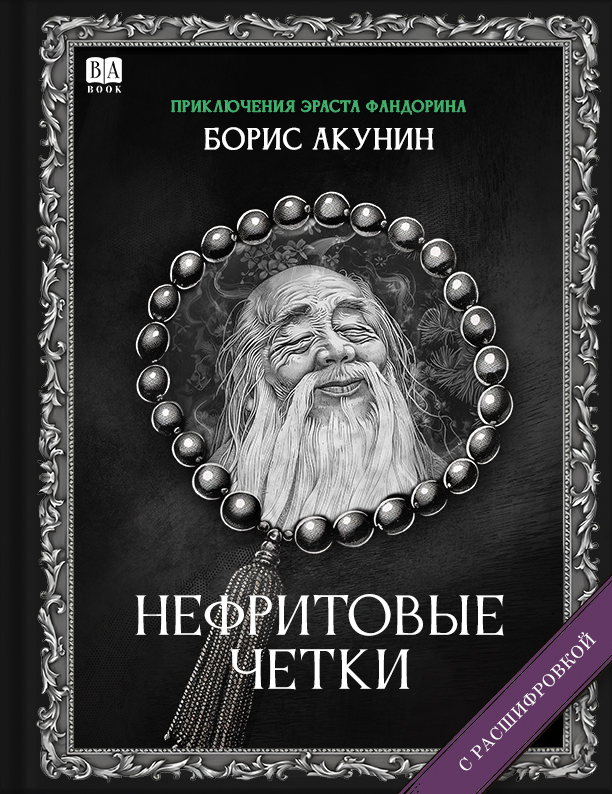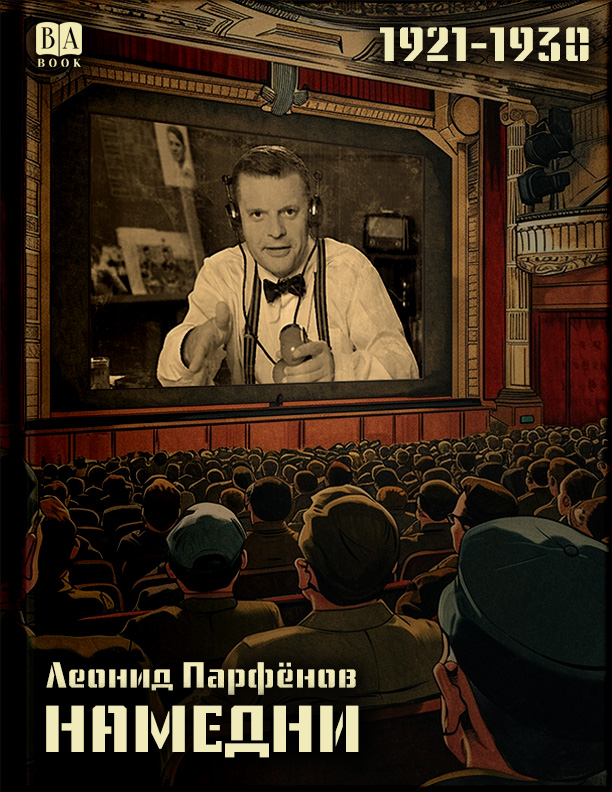МОЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ. ОЛЬГА БЕРГГОЛЬЦ
ТРАГЕДИЯ БЛОКАДНОЙ МАДОННЫ
Книга Ольги Берггольц «Я пишу здесь только правду». Из дневников. 1923–1971» (М.: КоЛибри. Азбука-Аттикус. 2024. Вступительная статья Натальи Громовой. Составление Наталии Соколовской. Комментарии Наталии Соколовской и Александра Романова) представляет читателю произведение, которое всю жизнь мечтала написать Ольга Берггольц. Ее Главная книга должна была по откровенности и смелости следовать «Былому и думам» Александра Герцена и «Исповеди сына века» Альфреда де Мюссе, и Ольга Берггольц считала, что дневники - лишь вспомогательный материал для нее. Но жизнь распорядилась иначе: именно дневниковые записи, которые она вела всю жизнь и прятала в годы репрессий, той самой Главной книгой и оказались. Ольга Берггольц сумела воплотить в них трагедию своей жизни, сломанной тоталитарным государством.
Вся она предстает на этих страницах - от юной девочки, кокетливой с молодыми людьми и горячо верящей в революцию и Ленина («Как у нас гудки сегодня пели! Точно все заводы встали на колени. Ведь они теперь осиротели. Умер Ленин... Милый Ленин...» - ее стихи 1924 года), до измученной женщины, разуверившейся во всем и во всех и стремительно летящей к гибели от тяжелого нервного заболевания, которого она не могла избежать. Советская действительность, особенно в самые страшные ее годы, уничтожала все живое. Берггольц была очень живая, страстная, потому эта действительность уничтожила и ее.
В годы Большого террора Ольгу Берггольц, беременную, вызвали на допрос по делу арестованного Леопольда Авербаха, главы Российской ассоциации пролетарских писателей (РАПП) и увезли с этого допроса в больницу - ребенка она потеряла. Это произошло сразу после смерти двух ее маленьких дочерей. Историк культуры Наталья Громова пишет об этом времени ее жизни: «В минуты самой глубокой скорби Ольга все отчетливее нащупывает одну из основных тем своей поэзии — преодоление смерти через Память. Она беспрестанно возвращается к воспоминаниям о дочерях, вставляя их гибель в общий текст своей судьбы, и делает это подчас абсолютно беспощадно к себе самой».
А вскоре после этого ее и саму арестовали. Ребенка, которого она снова тогда ждала, из нее выбили во время допросов. «Повезло», что это произошло во время демонстративной бериевской «оттепели»: Ольгу Берггольц не расстреляли и даже выпустили из тюрьмы. Но пережитая трагедия (был еще и расстрел ее первого мужа, поэта Бориса Корнилова) переменила ее абсолютно. Фанатичная вера в коммунизм, готовность оправдать великой целью страшные преступления («Я очень счастлива и горда — во 1-х, справедливостью и мудростью партии (нашей, нашей партии!). Сталин (я не люблю, когда много и подобострастно трепятся о Сталине, это оттого, что я люблю его и не могу произносить его имя без спазмы восторга и счастья!), Сталин, оказывается, говорил: «Для рядовых членов партии членство в партии является вопросом жизни и смерти»…) - все это осталось в прошлом. Она еще пыталась найти какие-то опоры, писала в дневнике: «О, как мало времени осталось на жизнь и ничтожнейше мало — на расцвет ее, которого, собственно, еще не было. А когда же дети? Надо, чтоб были и дети. Надо до детей успеть написать роман, обеспечиться...».
Но началась война, и началась разгромом такого масштаба, который вызвал у Берггольц ужас.
«Мы все последние годы занимались больше всего тем, что соблюдали видимость. Может быть, мы так позорно воюем не только потому, что у нас не хватает техники (но почему, почему, чорт возьми, не хватает, должно было хватать, мы жертвовали во имя ее всем!), не только потому, что душит неорганизованность, везде мертвечина, — но и потому, что люди задолго до войны устали, перестали верить, узнали, что им не за что бороться? О, как я боялась именно этого! Та дикая ложь, которая меня лично душила, как писателя, была ведь страшна мне не только потому, что МНЕ душу запечатывали, а еще и потому, что я видела, к чему это ведет, как растет пропасть между народом и государством, как все дальше и дальше расходятся две жизни — настоящая и официальная».
24 сентября 1941 года Ольга Берггольц пишет: «Третьего дня днем бомба упала на издательство «Советский Писатель» в Гостиный двор. Почти всех убило. Убило Таню Гуревич, — я ее очень давно знаю, она была славная, приветливая женщина. Еще недавно я была у них за деньгами и говорила с нею. Семенов жив, но тяжело ранен. Да, в общем, погибли почти все. А работники «Советского Писателя» — это уже мы. Это — мы гибнем от бомбы. Это давно знакомые люди, конкретно включенные в сознание. Гибнет вместе с ними что-то и в тебе».
Всю войну она оставалась в Ленинграде, вела передачи на радио и стала поэтическим голосом трагедии блокадного города. Ею были написаны стихи, строка которых «Никто не забыт, и ничто не забыто» вошла в историю.
Тогда же Ольга Берггольц познакомилась с заведующим литературно-драматической редакцией литературоведом Георгием Макогоненко.
«Мы сидели не затемняясь, в сумерках, небо было розовое от далеких пожаров, — Ленинград еженощно в кольце пожаров. Будущий читатель моих дневников почувствует в этом месте презрение: «Героическая оборона Ленинграда, а она думает и пишет о том, скоро или нескоро человек признается в любви или в чем-то в этом роде». Да, да, да! Неужели и ты, потомок, будешь так несчастен, что будешь считать, будто бы для человека есть что-то важнее любви, игры чувств, желаний друг друга? Я уже поняла, что это — самое правильное, единственно нужное, единственно осмысленное для людей. Верно, война вмешивается во все это, — будь она трижды проклята, трижды, трижды!! «В бомбоубежище, в подвале, / нагие лампочки горят... / Быть может, нас сейчас завалит. / Кругом о бомбах говорят... / ...Я никогда с такою силой, / как в эту осень, не жила. / Я никогда такой красивой, / такой влюбленной не была...».
В 1942 году ее командировали в Москву. Наталья Громова пишет об этой поездке: «Ольга Берггольц была потрясена контрастом между жизнью в умирающем Ленинграде и жизнью в Москве. Здесь было электричество, давались представления в театрах, звучала музыка из радиоприемников, работали кафе и рестораны. Но главное — Ольга с ужасом понимает, что правда о Ленинграде скрывается: «Здесь не говорят правды о Ленинграде — не говорят о голоде... 〈...〉 ...запрещено слово „дистрофия“, — смерть происходит от других причин, но не от голода! 〈...〉 Трупы лежат штабелями, в конце Мойки целые переулки и улицы из штабелей трупов. Между этими штабелями ездят грузовики, с трупами же, ездят прямо по свалившимся сверху мертвецам, и кости их хрустят под колесами грузовиков», — записывает она в дневнике. Наряду с тюремными, блокадные страницы дневника Берггольц самые страшные и отчаянные».
Когда 18 января 1943 года блокада Ленинграда была прорвана, город услышал сообщение об этом, прочитанное Ольгой Берггольц: «Мы знаем, нам еще многое надо пережить, многое выдержать. Мы выдержим всё. Уж теперь-то выдержим, теперь-то мы хорошо почувствовали свою силу».
Что народ-победитель почувствовал свою силу, понял и Сталин: после войны репрессии начались заново - антисемитская кампания, привычное уничтожение интеллигенции, травля Ахматовой, Зощенко, Шостаковича. И в том числе - запрет, изъятие из библиотек книги блокадных очерков и радиоречей Ольги Берггольц «Говорит Ленинград». Власть все-таки не сочла нужным демонстративно арестовать «блокадную мадонну», но участие в преступной «общественной жизни» нанесло ей такой удар, от которого ее психика уже не оправилась. С абсолютной к себе беспощадностью Берггольц написала об этом в своем дневнике после того, как в 1952 году была направлена в «творческую командировку» на строительство Волго-Донского канала:
«Дикое, страшное народное страдание. Историческая трагедия небывалых масштабов. Безысходная, жуткая каторга, именуемая «великой стройкой коммунизма», «сталинской стройкой». Это — коммунизм?! Да, люди возводят египетские сооружения, меняют местами облик земли, они радуются созданию своих рук, результату каторжных своих усилий, я сама видела это на пуске Карповской станции, на слиянии Волги и Дона, — но это — радость каторжан, это страшнейшая из каторг, потому что она прикидывается «счастливой жизнью», «коммунизмом», она драпируется в ложь, и мне предложено, велено драпировать ее в ложь, воспевать ее, и я это делаю, и всячески стараюсь уверить себя, что что-то «протаскиваю», «даю подтекст», и не могу уверить себя в этом. Прежде всего я чувствую, что должна писать против этого, против каторги, как бы она ни называлась. До сих пор я мычу от стыда и боли, когда вспоминаю, как в нарядном платье, со значком сталинского лауреата ходила по трассе вместе с гепеушниками и какими взглядами провожали меня сидевшие под сваями каторжники и каторжанки. И только сознание — что я тоже такая же каторжанка, как они, — не давало скатиться куда-то на самое дно отчаянья. Путь с Карповской в Сталинград, зимой, после пуска станции: во вьюге свет машины выхватывал строителей, которых вели с торжества с автоматами наперевес «чухлики» и окружали овчарки. В темноте, под вьюгой. Сидела в машине, закинув голову, и куда-то глубоко внутрь, как свинец, текли слезы: за стеклами машины шел МОЙ народ, 90 % из него был здесь ни за что (как я в тюрьме в 38–39, с тем же чувством жгущей, несмываемой, изумленной обиды), и как я далеко была от него, страдая за него до воя, и должна была — вместо того, чтоб сказать: «Да нет, так нельзя!», — сказать, что все это прекрасно... И, в общем, сказала. Чего они удивляются, что я запила после этого? Если б я была честным человеком, мне надо было бы повеситься или остаться там. Очерк, который написала, всех поразил, а в нем — ничего. Ни лжи, ни правды — поверхность события, в общем — ложь. Не была героем, не протестовала против этого всего? Нет, не была. Наоборот, была, в общем, как и все — подлецом. Может быть, водка спасла меня и требует сейчас расплаты, как чорт — души».
Все попытки ее лечить были бесполезны, и дневник содержит исчерпывающее тому объяснение:
«Внутри все голосило от бешеного протеста: как?! Так я вам и выблюю в ведро всё, что заставило меня пить? И утрату детей и самой надежды на материнство, и незаживающую рану тюрьмы и обиды за народ, и Николая, и сумасшедший дом, где он погиб, и невозможность говорить правду, и сомнения в Юрке (уже знала об его пошлейшей измене в 1949 году, и очень это болело), — и вот все так и останется кругом, и вы думаете, что если я месяц поблюю, то все это во мне перестанет болеть и требовать забвения?! Но куда же денется эта страшная, лживая, бесперспективная жизнь, которой мы живем, которой не видно никакого конца? Как же мне перестать реагировать на нее? Кем же мне стать? Ничего, кроме отвращения к человеческой тупости, ощущения какого-то бездонного расхождения с обществом, — конкретно, с «лечащими» меня людьми — сестрой, приятелями, частично с мужем, — это «лечение» мне не принесло. Муська, очень любящая меня, кричала: «Я не могу для тебя изменить государственную систему»... А в ней- то главное дело и было. «Я хочу быть в мире с моей страной», — и было почти невозможно. Видит бог, как я пыталась быть с ней в мире, — хотя бы, не закрывая глаз на Волго-Дон, пытаться писать о том свете, который в нем заключался, — о людском бессмертном труде. Но каторга оставалась каторгой, и вся страна и физически и духовно (о, особенно духовно!) была такой, и не только мирясь, но и славя ее, я лгала, и знала, что лгу, и мне никуда было не уйти от сознания своей лживости, — даже в водку. И в водке это сознание достигало острейшего предела, пока не потухало сознание общее. Ощущение гибели, все ускоряющегося скольжения по наклонной не оставляло меня все эти годы, начиная с 1946-го, и порой мне хотелось ее ускорить: все равно честно жить нельзя, и ничем не поможешь, и ничем себя не обманешь, — ни успехом у читателей, ни премией (после получения Сталинской я стала пить особенно зверски, хотя «Первороссийск» в основном — честно, т. к. изъят из запасов первой веры). А в блокаду — писала только правду, и мне поверили. — А как же другие живут? А как же мы живем и работаем? — кричали мне приятели... Ну, так и они пили и пьют, только нервы у них крепче, что ли, что не дошли до запоев и безобразий, до которых доходила я».
Смерть Сталина, ставшая огромным облегчением, уже не могла принести надежды на светлое будущее.
«Нечего скрывать, — после смерти Сталина, пережив странное смятение в дни его смерти, похорон и т. д. (смятенье освобождающегося раба, Якова верного, холопа примерного, как становится все яснее) — мы с робким изумлением, с недоверием и совсем уже с оробелой радостью обнаружили, что дышится все легче и легче. Но Авгиевы конюшни были таковы, что еще до какой-либо свободы — очень далеко. Реку же сквозь них пропустить боятся, — разгребают гавно помаленьку, вручную».
Изменить суть этой системы невозможно - Ольга Берггольц понимает это окончательно. В 1963 году, во время хрущевской оттепели, она записывает: «Ирина Дудина сказала о происходящем ныне в искусстве: — Это чудовищно... Взять и на несколько лет остановить естественное развитие искусства! То есть в наихудшие времена сталинщины не испытывала я этакой мертвенности!». А одна из последних ее записей: «А все-таки почему в Советской России нет бумаги. И идей тоже нет. Какая великолепная и высокая мысль охватила нас за последние годы — а никакая!».
Советская власть убила многих талантливых людей - убила буквально, пулей в застенке. Но для того чтобы понять, как эта власть убивала таких людей и без пули, надо прочитать дневники Ольги Берггольц.