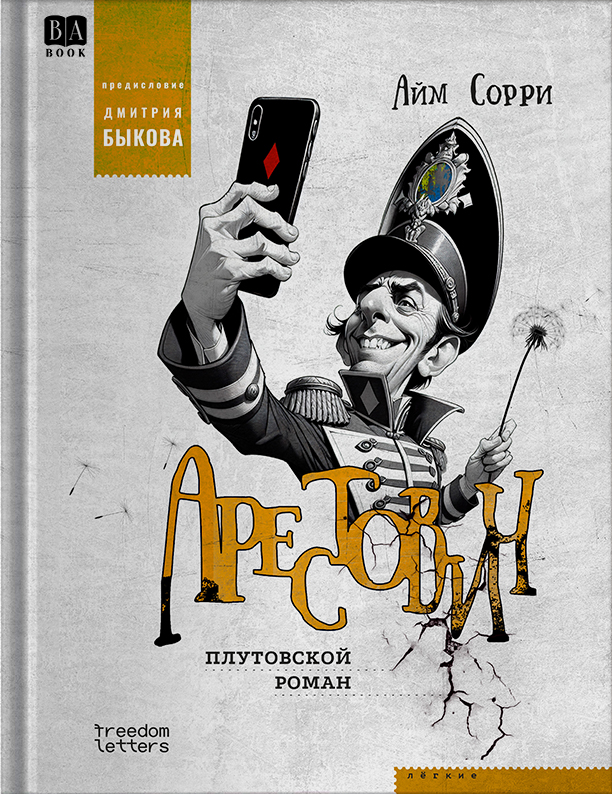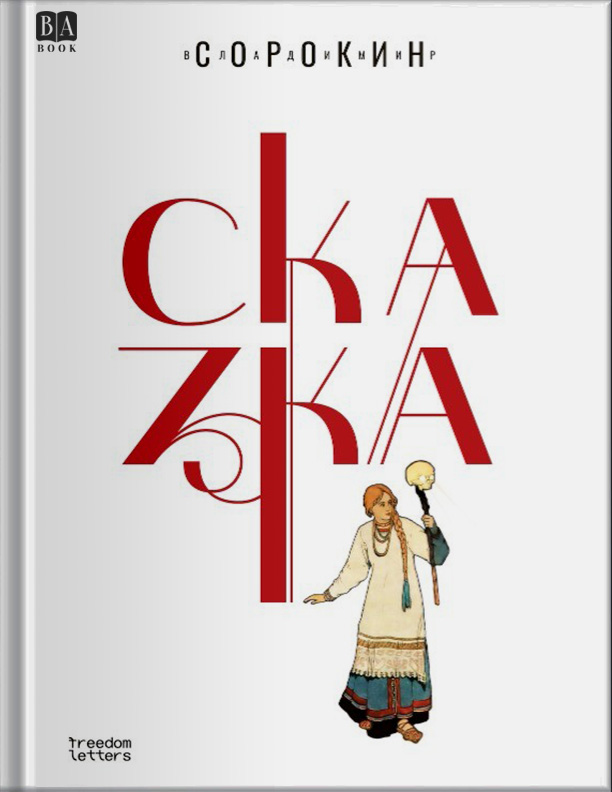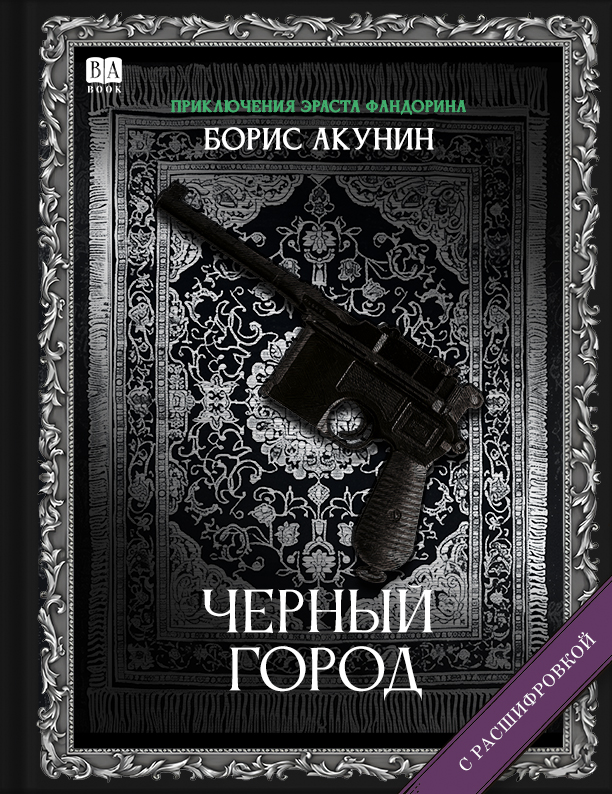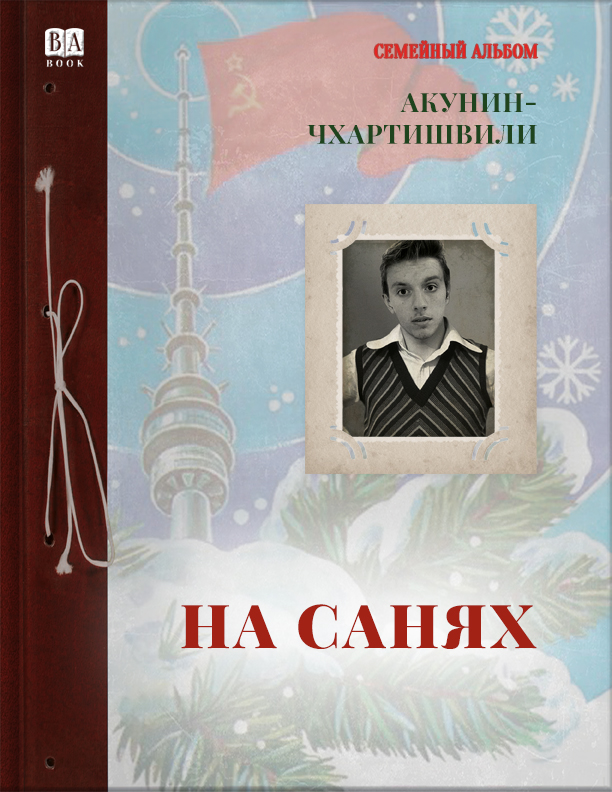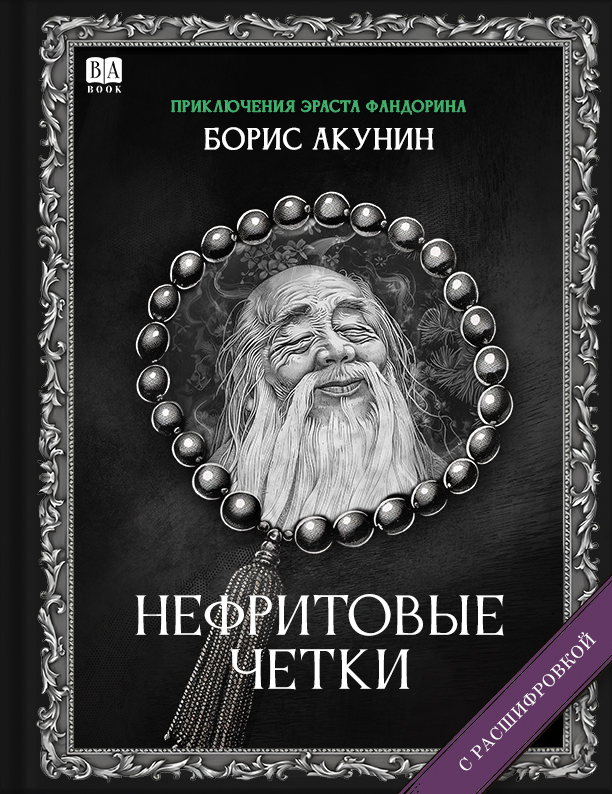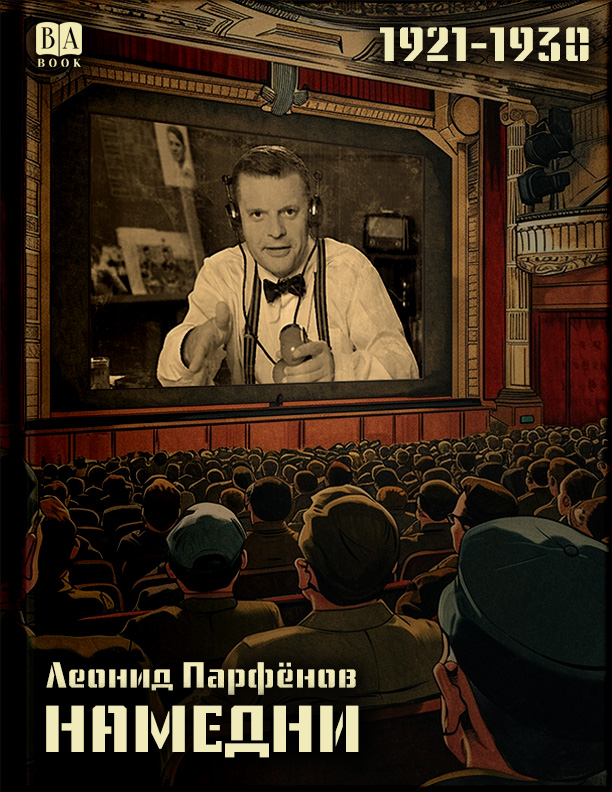МОЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ. ФРИДРИХ ГОРЕНШТЕЙН
И АД СЛЕДУЕТ ЗА НИМИ
В 1965 году Фридрих Горенштейн предложил свою повесть «Зима 53-го года» (Babook. 2024. Публикация Юрия Векслера) «Новому миру», самому либеральному литературному журналу времен «оттепели». Повесть была отвергнута, и до своего отъезда в Германию в 1985 году Горенштейн ничего кроме юмористических сочинений в СССР не публиковал.
Издательская жизнь, в которой отвергаются произведения Фридриха Горенштейна, крупнейшего писателя своего и не только своего времени, - должна развалиться, и жалеть о ней незачем. Но и для настоящего, и для будущего стоит осознать причины, по которым прогрессивные новомировцы не стали публиковать эту повесть. Конечно, текст был «непроходимый» - Главлит, советский цензурный комитет, ни при каких оттепелях не дал бы разрешения на «такое». Но дело не только в этом. Произведения Горенштейна вообще и эта маленькая повесть в частности наносят читателю художественный удар такой силы, что осторожные литературные деятели всегда будут опасаться, как бы после этого читатель не перестал интересоваться посредственными текстами, которые всегда же составляют большинство публикуемого.
В повести «Зима 53-го года» все герои погружены в ад, и написан этот ад так, что читателю невозможно не последовать в него вслед за ними. Определение «увлекательная» совсем не подходит к прозе Горенштейна, однако во всех своих произведениях он именно увлекает - туда, куда считает нужным. На этот раз - в шахту на руднике северного поселка. Сила, с которой автор заставляет читателя в нее сойти, мучительна, как наваждение.
Сначала кажется, что молодой человек по имени Ким (назван он так в честь Интернационала, что в сталинские времена всем было понятно), в недавнем прошлом студент, оказался в шахте в качестве заключенного. Такой беспросветный ужас являет собою работа этого измученного, больного, покрытого рубцами и струпьями человека, что невозможно представить, чтобы ее стал выполнять человек хоть сколько-нибудь свободный.
«Цель его жизни была волочить скребок сквозь темноту, сквозь сумерки к решетке, освещенной карбидной лампой, и теперь, когда цель эта осуществлялась и скребок полз, наполненный до краев чистой высококачественной рудой, он испытывал особенный страх, только лишь сама катастрофа могла избавить его от страха перед ней. <…> Теперь все глыбы, ранее присмиревшие, двинулись, зашевелились, и из глубины забоя, из камеры опять послышался шепот и сладковатый запах серы. Ким быстро перевернулся на живот и, чувствуя свое тело гибким и мягким, как у ящерицы, пополз от настигающих глыб, прогибая позвоночник. Где-то посередине выработки он начал повизгивать. Его стошнило, однако он продолжал двигаться, очень быстро перебирая руками и ногами и лавируя мягким резиновым телом меж ухающих глыб. Карбидная лампа осталась под глыбами, он полз в кромешной тьме, и, возможно, в этом было спасение, он полз по самому краю пятидесятиметровой пропасти, время от времени то рука его, то нога соскальзывала с бревен в пустоту, он выдергивал их, словно пустота была небольшим углублением, и полз дальше. Будь у него в эти мгновения хоть крупица обычного человеческого воображения, пустота увлекла б его, притянула, однако он был ящерицей с гибким телом и все полз и полз изгибаясь. Повизгивание, исходящее из нутра его, прекратилось, возможно, это повизгивание было последней данью разуму, сразу в полном объеме понявшему ужас происшедшего».
Но уже на следующих страницах, через какие-нибудь полчаса, Ким, чудом избежавший гибели, беседует с мальчишками-фэзэушниками, которых тоже пригнали в этот ад работать, чтобы «дожать» недостающие до плана два процента руды. Мальчишки отвратительны в своей жестокости, глупости, и даже юность не добавляет им обаяния. Что уж говорить о взрослых шахтерах. Каторжный труд - притом, что они вовсе не каторжане, а обычные советские рабочие - лишил их всего, что могло бы обозначаться словом human. Ни малейшей человечности, ни тени сострадания - ни к другим, ни к самим себе. Ни тени смысла в их существовании. «Ты подохнешь сегодня, а я завтра, ну так давай хоть пожрем и выпьем, пока время есть», - они не произносят этих слов, но именно эта мотивация является единственной для жизни в том виде, в каком она им выпала.
Слова между тем все же произносятся. Когда Ким выбирается на поверхность, они звучат по радио:
«В беседе с нашим корреспондентом,— неожиданно сказал диктор,— начальник шахты «Центральная» товарищ Маковеев сообщил: гордо горит на подъемном копре шахты яркая звезда, символ трудовой доблести, которой коллектив отвечает на отеческую заботу Иосифа Виссарионовича, на счастье жить и трудиться в великую сталинскую эпоху». Ким встал во весь рост. Грудь его распирало, плечи раздвинулись. Его приподняло, понесло, он захлебывался от восторга. По приемнику передавали ритмичные, будоражащие кровь марши, Ким одевался, насвистывая их, время от времени он от полноты чувств начинал тереть ладонь о ладонь с такой силой, что кожа разогревалась, бесчисленные царапины зудели, кое-где даже проступили капли крови».
Зима 53-го года - время самой сильной возгонки общественной истерии. Рабочие, живущие так, что жизнью это назвать невозможно, видящие постоянную и обычно мучительную гибель тех, кто работают вместе с ними, в том числе мальчиков-фэзэушников (у одного из этих мальчиков от удара по голове глыбой руды вылетели глаза), остающиеся совершенно ко всему этому равнодушными, - оживляются, когда речь заходит о врагах, тем более что с недавних пор главными врагами объявлены евреи, которые в силу врожденного антисемитизма и раньше им таковыми виделись.
И выбраться из этого ада невозможно - шахта является тем последним прибежищем, в котором пытался скрыться Ким, сын расстрелянного «врага народа», а до него пытались скрыться раскулаченные, чтобы не погибнуть в лагерях.
Таких шахт, таких поселков - не считано. «Город напоминал комету. Вдоль хвоста — сорокакилометрового шоссе — тянулись рудничные поселки, которые в основном отличались друг от друга расположением шахты. Иногда шахтные копры, бункера, породные отвалы подступали к самому шоссе, а крыша Дома культуры виднелась за одинаковыми домами с лепными эмблемами, иногда, наоборот, в глубь поселка отступала шахта, а Дом культуры — близнец, трехэтажный, с колоннами и статуями, располагался у шоссе. Казалось бы, кто-то все время перемешивает один и тот же поселок, переставляет, словно шахматные фигуры, если б пейзаж не оживлялся то речушкой, то рощицей, то оврагом».
Вся эта обитель безумия настолько органична, что монолог человека действительно безумного, ставшего ментальным и физическим инвалидом в лагерях, выглядит в ней самым осмысленным высказыванием:
«Матвей вдруг улыбнулся.
— Ты похож на литовского министра,— сказал он.
— Какого литовского министра,— крикнул Зон,— у него начинается припадок...
— Министра Литвы,— улыбаясь, повторил Матвей,— мы вместе работали... Человек он дрянной, ты все-таки немного лучше. Склочный, злой и землекоп никудышный... Но умница... Мы с ним сходились, толковали в свободное время... Буржуазной Литвы министр... Он Древним Римом занимался раньше... Я тоже, когда студентом был... До армии... Интересное дело.— Матвей сжал ладонями щеки.— Ты заметил, режим тирании возникал чаще всего от усталости, от стремления человека получить счастье наиболее простым, легким путем... Ты только не спорь... Я вижу, ты опять волнуешься... Дело не в спорах... Я над этим долго думал. Преклонение перед властью, если только оно искреннее, чисто и бездумно, приносит наслаждение необычайно сильное и значительно превышающее наслаждение властью, которое никогда не может достигнуть той полноты, того самозабвения... Искренний раб всегда счастливей своего господина, и одной из причин, толкающих тирана на репрессии и жестокости, причин подспудных, в которых он сам себе не признается, является его зависть к своим до глубины души счастливым обожателям... Тиран всегда глубоко несчастен...».
И он же, искалеченный этот Матвей, говорит своему родственнику Зону то, что можно было бы сказать и Киму, и, наверное, кому-нибудь еще из обитателей ада: «Какой бы ты был замечательный человек, если б у тебя для этого была малейшая возможность...».
У Кима нет ни малейшей возможности ни для того, чтобы кем-то стать, ни для того, чтобы просто выжить. Он понимает это даже не когда его собираются отправить под следствие, чтобы уничтожить таким образом свидетеля гибели детдомовцев-фэзэушников, которых начальство бестрепетной рукой послало ради выполнения плана в аварийную шахту, назвав это «экскурсией». Ким понимает, что сила жить вышла из него, когда сам начинает испытывать ненависть к жизни.
«Любовь к окружающему миру, к существованию, пусть подсознательная, есть последняя опора человека, и, когда природа отказывает ему в праве любить себя, любить воздух, воду, землю, он гибнет. И чем чище и нравственней человек, тем строже с него спрашивает природа, это трагично, но необходимо, ибо лишь благодаря подобной неумолимой жестокости природы к человеческой чистоте чистота эта существует даже в самые варварские времена».
Поняв это, Ким спускается навстречу смерти туда, где она царит безраздельно - в ад. Он глотает смертельный газ, которым наполнена шахта, с таким исступлением, с каким нормальный человек глотает живительный воздух.
И, по принятым в аду обыкновениям, когда - очень не скоро - его изуродованное тело извлекают из шахты, отправленный сопровождать его в последний путь медбрат не теряет времени: он «уселся подальше от носилок, но с таким расчетом, чтоб видеть их, и в ожидании санитарной машины вынул бутерброд: черный кусок хлеба и тонкий кусочек свежей булки сверху. Подобный бутерброд — хлеб с булкой — медбрат любил больше, чем хлеб с колбасой, особенно если булку слегка поджарить».
Фридрих Горенштейн создал в повести «Зима 53-го года» такую квинтэссенцию сталинской эпохи, что становится понятно: когда эта адская колба разбилась, содержимое не могло просто впитаться в землю. Точнее, земля не могла это принять. Этот концентрат растворился в обычной жизни страны - в ее настоящем и, как теперь особенно понятно, в будущем.
Фридрих Горенштейн искал в жизни не оптимизм, а правду такого накала, которым только и создается искусство.