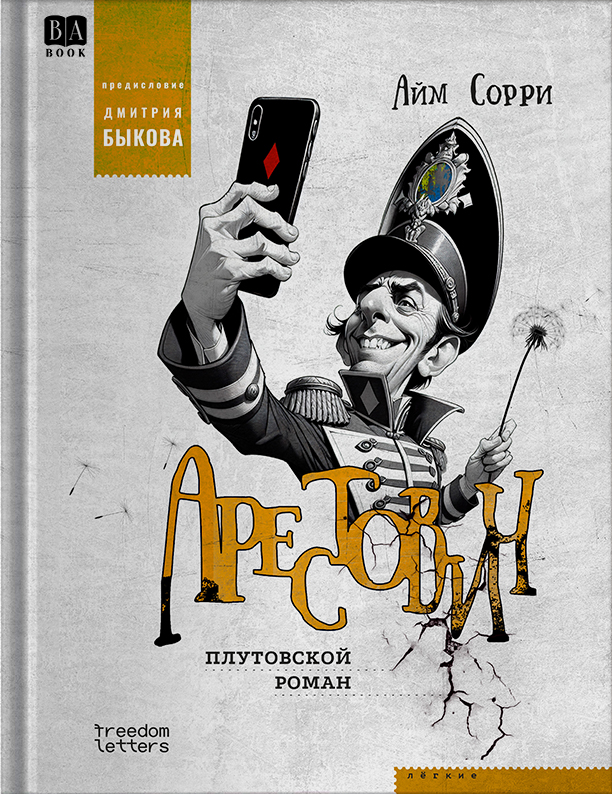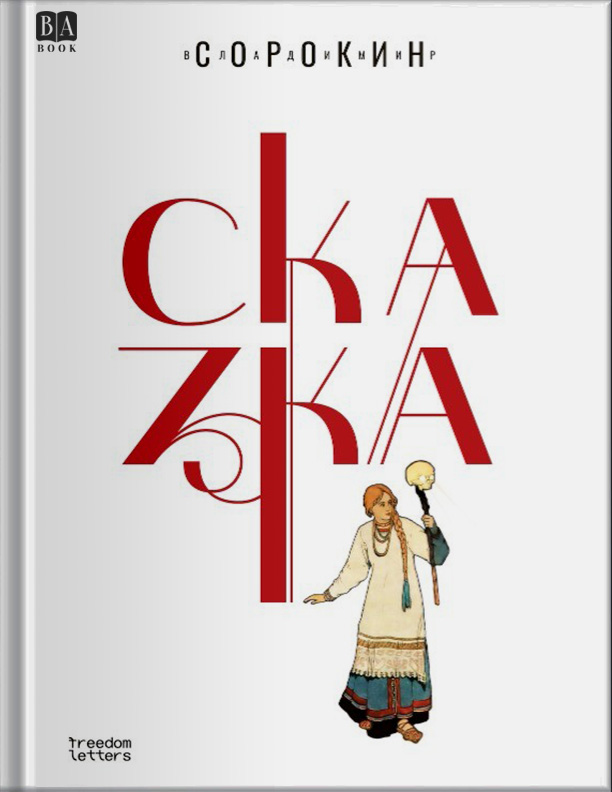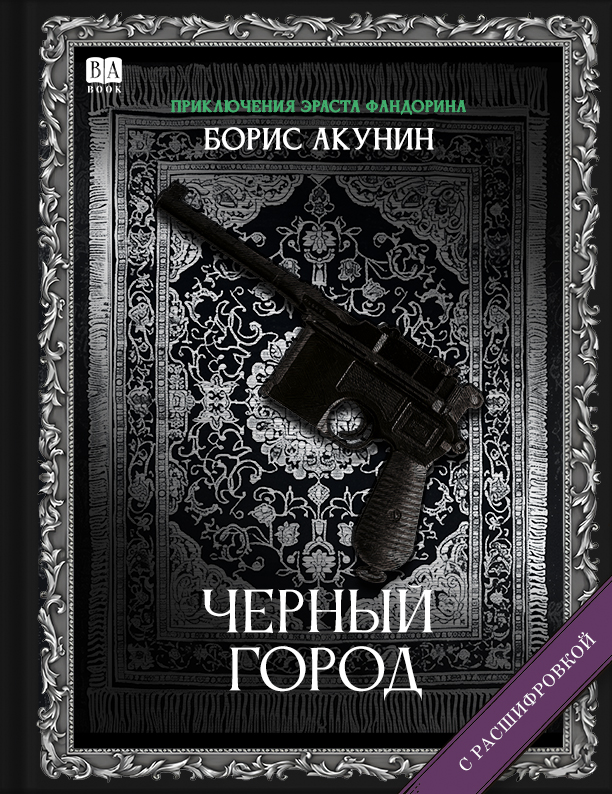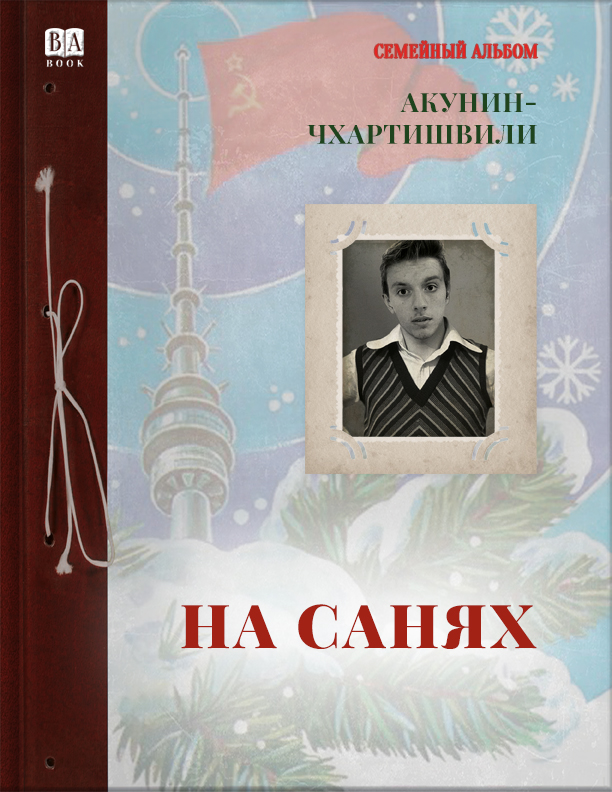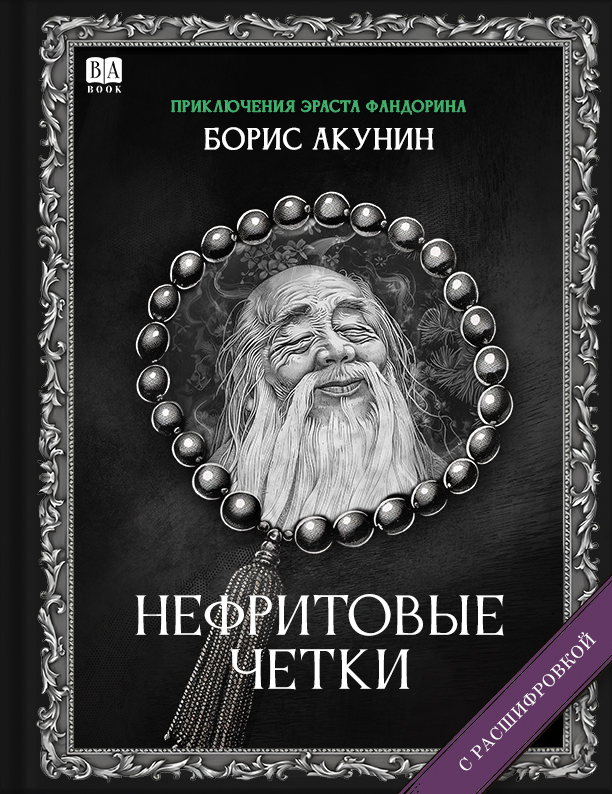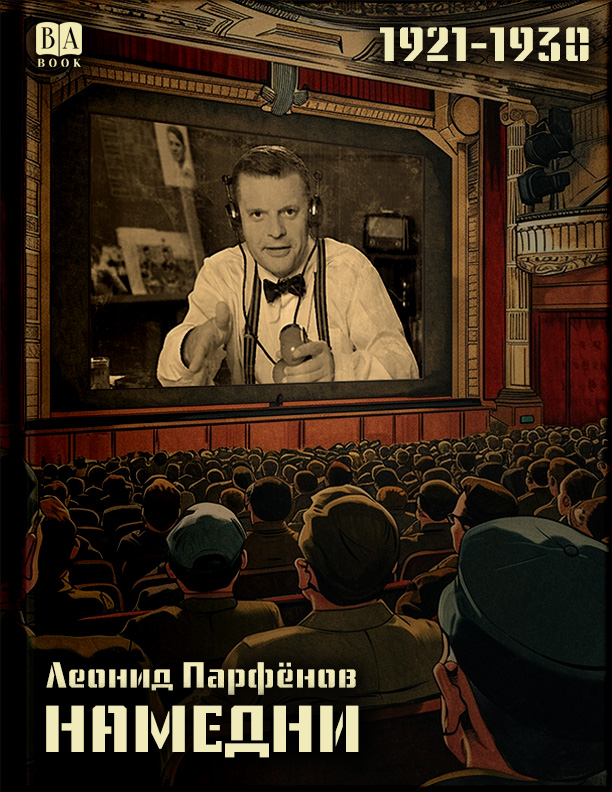МОЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ. ВЛАДИМИР БУЛДАКОВ
ИРРАЦИОНАЛЬНАЯ ХРОНИКА РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
В аннотации к книге Владимира Булдакова «Страсти революции: Эмоциональная стихия 1917 года. М.: Новое литературное обозрение. Серия «Что такое Россия». 2024) отмечено, что автор «предлагает читателю эмоциональную хронику событий, которая призвана ответить на вопрос: как утопию мировой революции накрыл кровавый туман «красной смуты»?». Это звучит и привлекательно - эмоционально окрашенное всегда привлекает особенно, - и настораживающе: не будет ли книга состоять из недоказуемых и не подкрепленных фактами инвектив? Но с первых же страниц становится понятно, что Владимир Булдаков, доктор исторических наук, автор сотен научных работ по истории России конца XIX—начала XX века, основывает написанную им «историю революционных эмоций» именно и только на множестве исторических фактов. При этом он считает эмоциональность (в данном случае синонимом ей можно считать иррациональность, о которой Николай Бердяев писал, что «в русской политической жизни, в русской государственности скрыто темное иррациональное начало, и оно опрокидывает все теории политического рационализма») значимым фактором общественной жизни - в частности, во время революционных потрясений, когда в силу нескольких выявляемых причин «в ход истории впервые вмешалась психика «маленького человека», и эмоции—от фантастических надежд до агрессивного отчаяния—вторгались в большую политику». Автор понимает, что «объяснять, что российское культурное пространство отличалось повышенной эмоциональностью,—задача рискованная. Между тем всякая традиционная культура перенасыщена эмоциями (даже в тех случаях, когда обычай предписывает скрывать их). К тому же российское самодержавие, отягощенное крепостническим наследием, искусственно—через церковь и образовательную политику—поддерживало недоразвитость сознания своих подданных. Отсюда характерный результат».
По прошествии лет объяснение, которое дает в «Страстях революции» Владимир Булдаков, выглядит убедительным ответом на вопрос: как население России, довольно косное и чрезмерно традиционное, могло вручить свою судьбу горстке авантюристов, помимо всех своих прочих сомнительных качеств еще и принадлежавших к тому социальному слою, который должен был бы вызвать у этого населения глубокое недоверие? Ведь большевики сплошь были мало того что отнюдь не крестьянами и не пролетариями, но еще и политическими эмигрантами, прибывшими на родину в тщеславной жажде личной власти.
Следует отметить, что на иррациональную, эмоциональную основу русской революции обращали внимание многие - слишком она очевидна. Автор приводит немало высказываний на этот счет - к примеру, искусствоведа Н.Н. Пунина о том, что «революция началась неожиданно и стихийно, она делалась безмерно, одним инстинктом». Но особенность книги Владимира Булдакова состоит в том, что, ведя читателя по историческим событиям от февраля до октября 1917 года, он взвешенно сочетает эмоциональное содержание каждого периода с его фактическим описанием.
Так, принято считать, что триггером февральских событий стала нехватка продовольствия в столице. Между тем автор пишет: «Создавалось впечатление, что нехватка продовольствия стала лишь поводом для выплеска накопившегося недовольства. Наблюдатели отмечали странности: «голодные» толпы, ворвавшись в хлебные лавки, иной раз разбрасывали захваченный хлеб по улице, а в самом магазине били стекла. <…> Все это напоминало «детское»—безответственное и глумливое — веселье, сопровождаемое жестокими выходками. Обыватель чувствовал себя на подмостках героической пьесы». О тех днях есть свидетельства и более чудовищного несоответствия между реальностью и массовыми представлениями о ней: «Между прочим, 27 февраля адмирал Вирен распорядился выделить манную крупу для раздачи больным детям рабочих. А на 1 марта он назначил на Якорной площади города собрание рабочих со своим участием. Однако среди ночи матросы вошли в его апартаменты, «вывели его раздетым и разутым в ров у Морского собора и, надругавшись... убили».
Владимир Булдаков пишет: «Каждый видел в происходящем то, что хотел увидеть. Так было по всей России. «Думают, гадают, пустить или не пустить нос по ветру, и по какому направлению»,—так описывала 3 марта состояние обывателей газета «Оренбургская жизнь».
Не удивительно, что умы, привыкшие анализировать происходящее, предчувствовали большие перемены. Историк М.М. Богословский писал: «В газетах продолжается вакханалия, напоминающая сцены из Реформации XVI в., когда ломали алтари, бросали мощи, чаши, иконы и топтали ногами все святыни, которым вчера поклонялись. Прочтешь газету—и равновесие духа нарушается... Переворот наш—не политический только... Он захватит и потрясет все области жизни—и социальный строй, и экономику, и науку, и искусство, и я предвижу даже религиозную реформацию».
На этом хаотическом и психически взвинченном социальном фоне, в атмосфере всеобщей растерянности, когда «знаки и символы европейской политической культуры начали свою безудержную и бессмысленную пляску под музыку российских эмоций, <…> и теперь у каждого была своя истина в собственном кармане», в первый день пасхальной недели явился из эмиграции в Петроград В.И. Ленин со своими апрельскими тезисами. Он не переоценивал готовность масс воспринимать какой бы то ни было рациональный план действий. «Сомнения—враг демагога, их надо было рассеять, - пишет Владимир Булдаков. - Людское легковерие в сочетании с эмоциональной взвинченностью - самая подходящая почва для демагогов. Для утверждения в сознании людей чужих «истин» требуется их навязчивое повторение, желательно с использованием соответствующих метафор. Похоже, по части демагогического возбуждения страстей большевики переиграли всех».
Прибавить к этому «характерному для того времени соединению провокации и анархии, утопии и психоза» непредсказуемость поведения большого числа вооруженных людей, а также то, что автор называет «большевизмом улицы», то есть любые действия, направленные против установленного порядка, бросить в этот адский котел все разом выявившиеся этнические проблемы - украинцев, латышей, мусульманских народов, не забыть надоевшую российскому населению Первую мировую войну с неудавшимся летним наступлением русской армии, поход Корнилова на Петроград, - и взрыв представляется неотвратимым.
«Сентябрь и октябрь сделались наиболее нервными, беспокойными и хаотичными месяцами революции». Автор приводит множество фактических свидетельств этого тезиса - о состоянии инфраструктуры в целом и железных дорог в частности, о многочисленных «базарных бунтах», стихийно возникавших, если кто-нибудь из покупателей предполагал, что ему продали тухлую рыбу…
Но почему все это сумел оседлать Ленин - человек, проведший в эмиграции большую часть своей сознательной жизни, а половину из восьми революционных месяцев скрывавшийся вне столицы? Владимир Булдаков дает этому следующее объяснение: «Ленин действительно был вождем Октябрьского переворота—исключительно потому, что он меньше других большевиков колебался относительно его необходимости. Но главный его «секрет» состоял во взаимодействии с революционной массой. Похоже, Ленин действительно видел революционный идеал в том, чтобы «следовать за жизнью», «предоставить полную свободу творчества народным массам», больше полагаться на их «опыт и инстинкт».
Философ Федор Степун отзывался о роли Ленина так: «Как прирожденный вождь он инстинктивно понимал, что вождь в революции может быть только ведомым, и, будучи человеком громадной воли, он послушно шел на поводу у этой массы, на поводу у ее самых темных инстинктов. В отличие от других деятелей революции он... сразу же постиг, что важнее сегодня, кое-как, начерно, исполнить требование революционной толпы, чем отложить дело на завтра... Ленин инстинктивно отверг логику своего рационального времени ради логики торжествующего хаоса (более понятного на примерах массовых движений Средневековья). Он говорил изумительно убедительно, но и изумительно бессмысленно».
Впрочем, Владимир Булдаков считает, что технику внушения массам агрессивной непреклонности точнее описал не философ Степун, а писатель Аверченко:
«Он посетил ряд митингов и выявил, что в основе речей большевистских ораторов лежит единая матрица: с помощью искусственной логической цепочки у слушателя вызывалась нужная эмоциональная реакция. Аверченко описывал это так: поначалу следовало произнести какую-нибудь общеизвестную банальность: «Волга впадает в Каспийское море»; затем подпустить сомнение: «Справедливо ли это?»; наконец, прояснить вопрос: «Пролетарская Волга впадает в буржуазное Каспийское море». После этого можно было декларировать: «Довольно многострадальной Волге питать разжиревшее Каспийское море!.. Да здравствует самоопределение Волги, да здравствует Третий Интернационал!» Увы, это было действительно так: логика идейных революционеров резонировала с психозом «обиженных» людей. «Гипноз» речей Ленина был связан с их соответствием ожиданиям толпы».
Владимир Булдаков не проводит в книге «Страсти революции» параллелей с современностью, но они возникают самым естественным образом. Нынешние российские демагоги прекрасно усвоили ленинские уроки и построили на них свою пропаганду.
Автор пишет: «Ничто в истории Великой российской революции не подвергалось такому упрощенчеству, как приход большевиков к власти. А обыденное сознание и ныне испытывает доверие к конспирологическим домыслам». С этим согласится каждый, кто наблюдает это нынешнее «обыденное сознание» воочию.
Захват власти большевиками произошел так буднично, что каждого, кто сознательно наблюдает его до сих пор длящиеся последствия, охватывает ужас, связанный именно с обозначенной по иному поводу банальностью совершившегося зла.
«На съезде, с которого принято отсчитывать эру социализма в России (речь о II Всероссийском съезде Советов, который состоялся сразу после октябрьского переворота 25-27 октября 1917 года. - Т.С.), никаких собственно социалистических решений не было принято. Съезд просто дозволил крестьянам доделить землю в соответствии с их собственными наказами, собранными эсерами; солдатам стало ясно, что зимовать в окопах необязательно, а судьбы мировой революции их не волновали. <…> Известие о появлении нового правительства—Совета народных комиссаров—также не особенно впечатлило. Людям не нужны были ни демократия, ни социализм, ни тем более конфликтующие между собой народные избранники; им нужна была надежда на выживание. <…> Декрет о земле Ленин, по свидетельству Н.Н. Суханова, зачитал, «спотыкаясь и путаясь» в силу дефекта зрения (астигматизма) и, как видно, неразборчивости самим же написанного текста. Эпохальный документ не вызвал никаких прений, лишь один делегат был против (при восьми воздержавшихся); «масса рукоплескала, вставала с мест и бросала вверх шапки». Поняли просто: земля перейдет к крестьянам. Во времена общественной смуты поворотное значение может приобрести любой решительный, пусть чисто символический жест, о последствиях которого мало кто станет задумываться. Декрет о мире был не законодательным актом, а то ли призывом, то ли пожеланием превращения «войны империалистической в войну гражданскую» (мировую). То и другое могло быть истолковано массами по-своему, причем в разное время возникали особые инверсии. Возможно, самое поразительное, что делегаты съезда практически единогласно, простым поднятием рук, как на митинге, голосовали за все подряд. Действовала «магия единодушия»—то ли психология толпы, то ли практика сельского схода. Голосовали скопом, причем вразрез с наказами избирателей».
И - всё. Большевики больше не выпустили власть из своих рук и не постояли за ценой ее удержания. Во всяком случае, при взгляде на нынешнюю российскую ситуацию тот шаг, мимоходом, без размышлений сделанный в бездну, выглядит необратимым.
Так ли это? Если бы знать!..