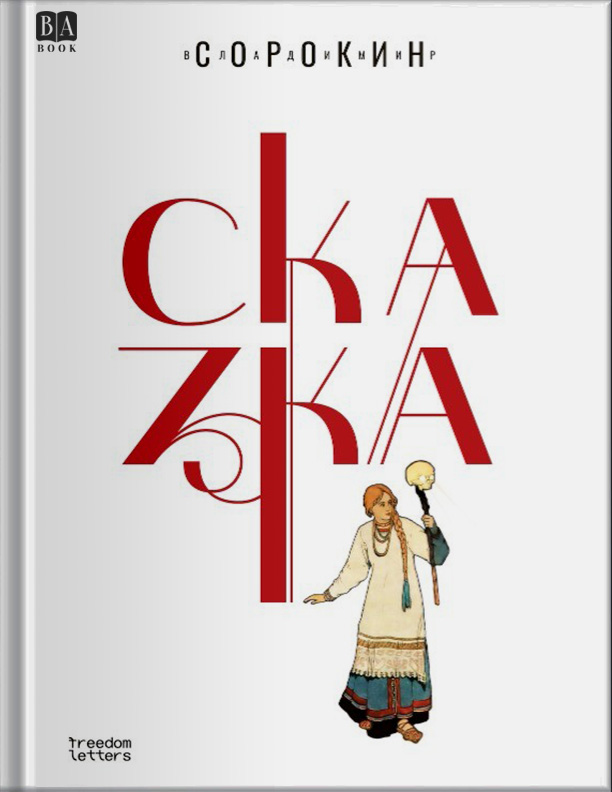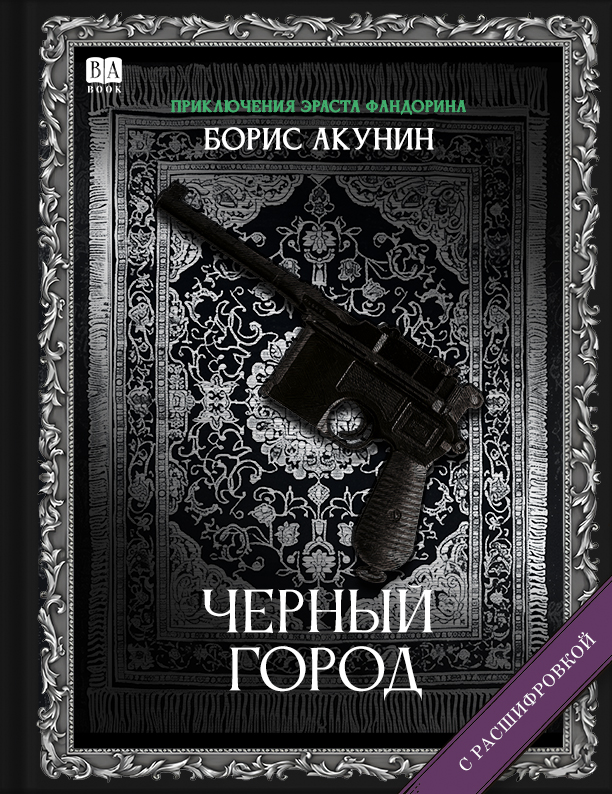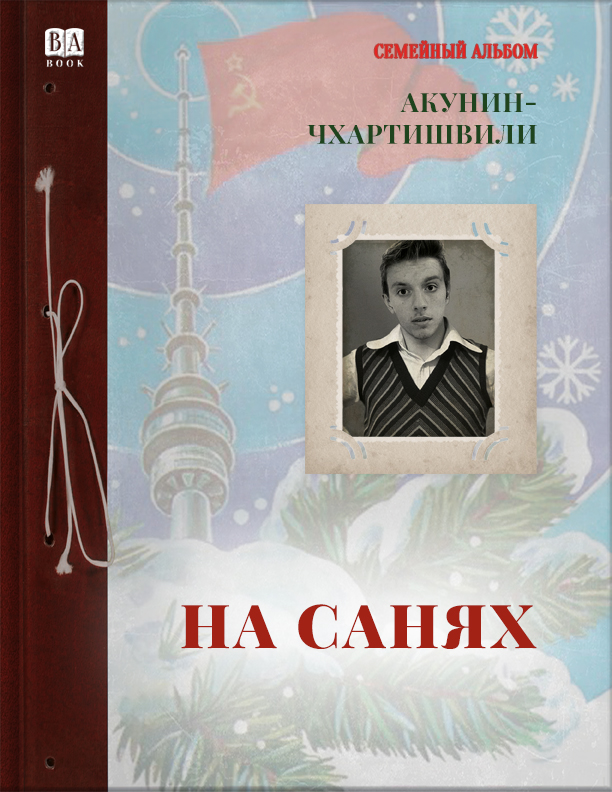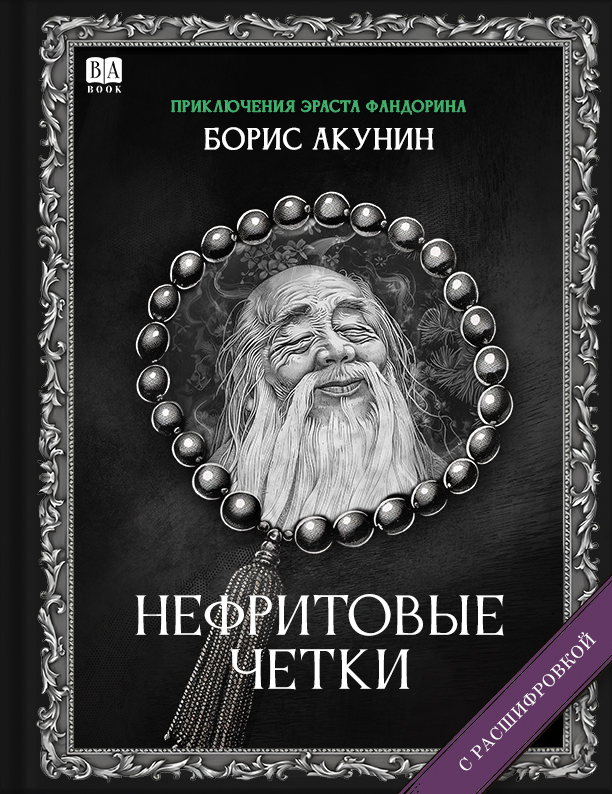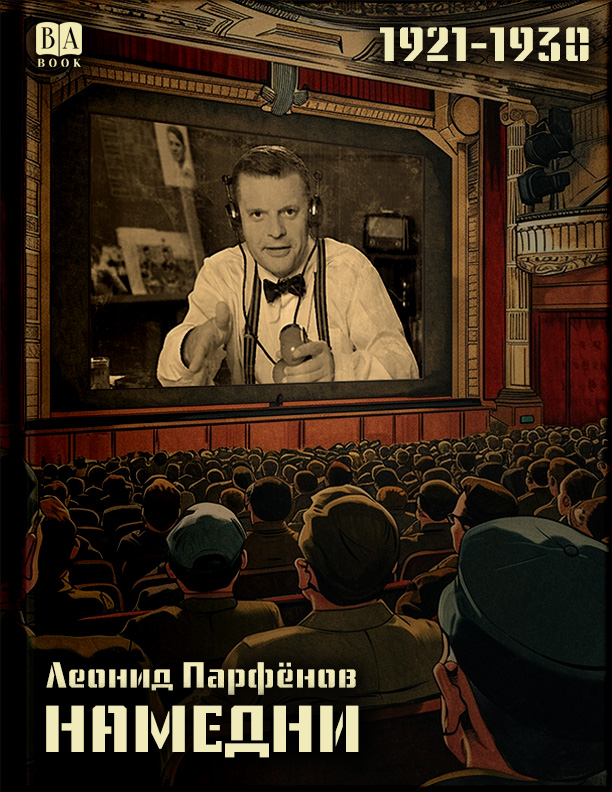Моя литературная премия. Плескачевская. «Стихия по имени Майя».
«ПРЕКРАСНОЕ БЕСПОКОЙСТВО И ВЕТЕР»
О Майе Плисецкой написано столько книг (не говоря уже о ее собственной книге о себе), что приходит в голову естественный вопрос: а можно ли вообще сделать новую книгу о ней так, чтобы не напрашивалось определение «очередная»? Инессе Плескачевской удалось избежать такого определения. Главная особенность ее книги «Плисецкая. Стихия по имени Майя. Портрет на фоне эпохи» (М.: АСТ: ОГИЗ. 2024) - эффект многоголосия: о Майе Плисецкой рассказывают те, кто с ней работали, дружили, общались. «Я поговорила не только с Родионом Щедриным и Валентином Елизарьевым, но также с Борисом Акимовым, Юрием Владимировым, Михаилом Лавровским, Людмилой Семенякой, Наталией Касаткиной, Борисом Мессерером, Виктором Барыкиным, Валерием Лагуновым, Сергеем и Еленой Радченко и другими», - объясняя этот эффект, которого она осознанно добивалась, пишет автор.
Инесса Плескачевская не строит свою книгу хронологически. Опорные точки ее композиции - балеты, в которых танцевала Майя Плисецкая, и шире - образы, созданные ею в «Лебедином озере», «Умирающем лебеде», «Спартаке», «Дон Кихоте», «Кармен-сюите», «Болеро»… Ставшие великими явлениями мирового балета образы. Каждый из них разобран в книге очень подробно и при этом представлен так, что раскрывает ту или иную тему, связанную с ее жизнью.
О Маше в «Щелкунчике» автор упоминает кратко: это была первая роль Плисецкой после того, как в 1943 году ее приняли в балетную труппу Большого театра, и эта роль сразу принесла ей славу.
О «Жизели», в которой Плисецкая уже в 1944 году станцевала повелительницу виллис Мирту, сказано главным образом потому, что рассказ об этом балете позволяет понять сложные отношения, сложившиеся у нее с другой советской балетной звездой, Галиной Улановой.
Более подробный рассказ об этих отношениях - не на уровне театральных сплетен (их Плескачевская, впрочем, тоже приводит, объясняя, что без этого о театре не напишешь), а на уровне художественного постижения - связан с балетом «Лебединое озеро»:
«В прямое соревнование между собой две великие балерины вступили лишь в одном балете — конечно, в «Лебедином озере». Галина Уланова дебютировала в нем 19-летней в феврале 1929 года в Ленинграде. Майя Плисецкая впервые станцевала Одетту-Одиллию, когда ей был 21 год. И тоже с бешеным успехом. Уланова танцевала в «Лебедином озере» почти двадцать лет, Плисецкая — тридцать. Он стал ее главным балетом. Когда в 1961 году Плисецкая танцевала «Лебединое» в Париже, газеты захлебывались от восторга: «И двадцать лет спустя еще будут говорить о ее руках... Будь то волнение Белого лебедя или страсть Черного, они заполняют собой все пространство, всю сцену. Ничего, кроме рук Плисецкой, не видишь», — писала «Пари-экспресс». «Руки у нее — каких не было ни у кого, — признавал Морис Бежар, который скоро станет ее любимым хореографом».
И все-таки Плескачевская уделяет гораздо больше внимания роли Майи Плисецкой в «Кармен-сюите» Бизе-Щедрина. И тому есть объяснение:
«Майе всегда казалось, что новелла Проспера Мериме создана для балетной сцены. В ней абсолютно все можно станцевать. К 1967 году, когда началась работа над «Кармен-сюитой», Майя Плисецкая была главной примой не только Большого театра, но и всего Советского Союза. Ее имя гремело на весь мир, а вот время в театре, по общепринятым и тогда, и сейчас балетным понятиям — пенсия через 20 лет после начала карьеры — истекало. Вернее, истекло: Плисецкая трудилась в Большом уже 24 сезона. Удивительная вещь, но «Кармен-сюита» — первый балет, поставленный специально для нее».
Об атмосфере, в которой шла работа над этим балетом, рассказал Инессе Плескачевской театральный художник Борис Мессерер в своей знаменитой мастерской под крышей дома на Поварской улице в Москве. И не только об атмосфере, но и о практических проблемах той работы. Так, по его словам, «сценография, вошедшая в балетную историю, выглядела новаторской в своем минимализме. Но родилась она такой от безденежья и хронической нехватки времени: спектакль создали практически за три месяца. А он стал балетом на все времена».
Сергей Радченко и Наталия Касаткина вспомнили в связи с «Кармен-сюитой», как «Щедрин приходил на каждую репетицию, и прямо там создавал для них музыку — «под ноги», «как Чайковский для Петипа».
Вообще, в рассказе о Родионе Щедрине очень ярко проявляется еще одна особенность книги Инессы Плескачевской: это текст о страсти и о ее проявлении во всем, в том числе в отношениях, в том числе в семейных. Что Майя Михайловна была человеком сложного характера, не сказал и не написал о ней разве что ленивый. Ее отношения с гениальным балетмейстером Юрием Григоровичем - это как раз и есть невозможность сосуществования двух мощных творцов и двух тяжелых характеров. Плескачевская, разумеется, тоже пишет о том, что «в этой долгой битве больших художников и больших самолюбий было много пострадавших». Но все-таки ей интереснее случай, когда сложность характера не играла главной роли в отношениях двух талантливых людей.
Плисецкая познакомилась с Родионом Щедриным в 1955 году в доме у Лили Брик. Но страсть возникла только три года спустя. Щедрин увидел ее в балете «Спартак», и потрясение оказалось слишком сильным, чтобы он мог устоять перед силой таланта, а она - перед силой его восхищения ее талантом и невероятным человеческим обаянием большого художника. Вскоре они поженились. Незадолго до этого к Щедрину подошел заведующий сектором музыки ЦК КПСС Б.М. Ярустовский и заявил: «Нам сообщили, что у вас роман с Майей Плисецкой. Надеюсь, вы не собираетесь на ней жениться. Вы испортите себе репутацию». Но надо было плохо знать Родиона Щедрина, чтобы предположить, что это его остановит.
Это был счастливый брак. И не только потому, что мужа с женой связывали прочные творческие отношения. Плескачевская приводит слова Майи Михайловны об этом:
«Мне кажется, что до него я творила в некоем вакууме, просто плыла по течению творческой жизни и, честно говоря, не очень задумывалась о том, что будет в будущем. И вот он смог организовать меня и как человека, и как актрису. Многим может показаться, что все довольно просто: Щедрин пишет музыку к балетам, а Плисецкая их исполняет. Далеко не так. Все сложнее, значительнее и выходит за рамки “автор — исполнитель”. Наше духовное родство возникло благодаря тому, что Щедрин полностью понял мои творческие устремления, желание делать что-то совершенно новое, непохожее на то, что я делала раньше. Все то, о чем думала, мечтала, может быть, и не всегда осознанно, он сумел понять и реально воплотить в жизнь. Уж не говорю о том, что, написав музыку к “Кармен-сюите”, “Анне Карениной”, “Чайке”, он продлил мою творческую жизнь, причем жизнь, наполненную глубоким содержанием».
О балете «Чайка» написала Наталья Крымова, театральный критик и жена режиссера Анатолия Эфроса, с которым Плисецкая и Щедрин обсуждали и музыку, и постановку этого балета.
«Наталья Крымова вспоминала, что, когда Плисецкая рассказала о своем замысле «Чайки» Анатолию Эфросу, он «был очарован»: оказалось, что балерина знает текст этой пьесы — «дерзкой, смелой, тревожной» (Крымова) — наизусть. А Щедрин мало того что знал текст наизусть, так еще и обсуждал с режиссером «все идеи и конфликты этой пьесы на равных». «Могу сказать, что, войдя в наш дом, Майя Плисецкая внесла туда прекрасное беспокойство и ветер», — писала Крымова».
Творческое единство Плисецкой и Щедрина очевидно и очень значительно. Но главное в их отношениях было в другом, очень простом: их связывала любовь. Та, которая может длиться в разные времена жизни, при разных обстоятельствах.
«Накануне золотой свадьбы Майя Плисецкая говорила в интервью газете «Комсомольская правда»: «Он меня любит так же, как и любил. Отношение такое, что лучше быть не может. И это естественно. Потому что всю жизнь делать вид невозможно. Когда-нибудь это проявится. В чем-нибудь. Просто мы любим друг друга, вот и все. Это очень трудно, но и просто». Признавалась, что характер у нее трудный, а на вопрос «кто в семье лидер?» отвечала, не задумываясь: «Я думаю, что он лидер. Потому что больше я его слушаю». Этот ответ у людей, не вхожих в семью, вызывал как минимум удивление: как же так — пассионарная, резкая в словах и поступках Майя признает лидерство за внешне спокойным и как будто на первый план не стремящимся Щедриным? Именно так: «Я готова молиться на него. Родион Константинович — вся моя жизнь. Не было бы его, не было бы и меня».
От вопроса о сложном характере Майи Михайловны Плескачевская все же не удержалась при встрече с Родионом Константиновичем в Мюнхене, где они полтора часа проговорили в квартире, в которой жили Щедрин и Плисецкая, а теперь он живет один.
«Конечно, встречаясь с «прекрасным мужем», я не выдержала и спросила:
— Я читала книгу «Я, Майя Плисецкая». Создается впечатление, что у Майи Михайловны был очень непростой характер.
— А у вас простой? — ответил Щедрин моментально и резко. Я растерялась и показала на сидевшего рядом своего мужа (он пришел, чтобы сделать фотографии):
— Это надо у него спросить.
— Я уверен, что непростой. Женщины вообще не могут быть с простым характером. Тогда это уже что-то другое, — отрезал Родион Константинович и продолжил, возвращаясь к жене: — Но для меня ее характер был простой, если мы прожили пятьдесят семь лет без каких бы то ни было конфликтов. Она была закрытый человек к чужим, а к близким была абсолютный воск».
Вообще же характер-кремень был у всех женщин большой театральной семьи, из которой происходила Майя Михайловна. Ее брат Азарий Плисецкий написал об их маме Рахили: «Характер у мамы был мягкий и твердый, добрый и упрямый. Когда в 1938 году ее арестовали и требовали подписать, что муж шпион, изменник, диверсант, преступник, участник заговора против Сталина и пр., и пр., — она наотрез отказалась. Случай по тем временам героический. Ей дали 8 лет тюрьмы».
Тетя Суламифь спасла маленькую племянницу от детдома и приложила все усилия к тому, чтобы девочка, в которой она, балетмейстер, сразу заметила талант, получила соответствующее образование. Но вся история детства - расстрелянного отца, чудом выжившей в лагере матери - не была Плисецкой забыта.
«Валерий Лагунов, ее балетный партнер, «говорит, касаясь удивившего многих завещания Майи Михайловны (тело кремировать, пусть прах дождется Щедрина, два праха соединить и развеять над Россией):
— У нее было несколько причин для этого. Одна из них — то, что она не хотела на Новодевичье, потому что там лежали убийцы ее отца».
Майя Плисецкая была не диссиденткой, а звездой Большого театра, презентационной советской фигурой, и в советские времена не выходила за рамки допустимого: подписывала все письма, которые обязан был подписывать советский артист, плясала «на советскую власть не покладая ног» и отдавала Госконцерту деньги, заработанные за границей. Но о том, что сделала эта власть с ее родными, помнила всегда. Да и власть не особенно давала ей об этом забыть. При всех восторгах и любезностях, которые расточали приставленные к ней гэбэшники, Плисецкую разрабатывали как английскую шпионку, причем демонстративно: под окнами круглосуточно дежурила машина с сотрудниками КГБ, а «жучки» прослушки были установлены даже в ее со Щедриным спальне.
Когда во времена «оттепели» решалось, поедет ли она в 1959 году на гастроли в США, а фактически - будет ли примой Большого театра и узнает ли о ней большой балетный мир, ее отпустили по личному решению Хрущева. Щедрина при этом оставили в заложниках, сопроводив Плисецкую отеческим напутствием: «Пускай спокойно свои концерты играет. Мы ему рук в заклад рубить не будем. Вот если не вернетесь...».
А чего стоит история «Болеро», поставленного для нее в 1978 году Морисом Бежаром! Плескачевская описывает как художественную составляющую этого выдающегося произведения балетного искусства, так и «бытовую» его историю:
«Однажды полковник из Саранска прислал в журнал «Огонек» такое письмо: «Друзья по партии! Мы живем в трудное для страны время... молодежь портится... и в эти тяжелые для страны годины вы послабляете и теряете партийную бдительность и вручаете в руки сексуального маньяка мощный рупор политического воспитания трудящихся, который в своих преступных целях раздевает народных артистов догола, а также депутатку Верховного Совета Майю Плисецкую. Преступный элемент заставил ее в экстазе кататься по полу со своей сексуальной неудовлетворенностью».
И ладно бы только солдафон изъяснялся в таком духе. Плескачевская пишет и о дальнейшем развитии этой истории:
«Плисецкая хотела показать «Болеро» на вечере к 35-летию своей творческой деятельности в Большом театре. Но тогдашний директор Большого Георгий Иванов сделал все возможное, чтобы этого не произошло: «Этот разнузданный порнографический балет модерниста Бежара со сцены Большого театра показывать публике нельзя. “Болеро” — для “Фоли Бержер” и “Мулен Руж”, но никак не для Большого. Пока я директор, не дам осквернить наш храм искусства». Но Майя станцевала в Большом! Разрешение пришло накануне с самого верха — поговаривают, его чуть ли не лично Брежнев дал. Я эту версию подтвердить не могу, хотя не исключаю».
Надо ли удивляться, что «обласканная» советской властью Майя Плисецкая сказала в годы перестройки в интервью Владимиру Познеру, что лично для нее коммунизм был хуже фашизма:
«Озадаченный Познер поднял брови, а она дальше: «Фашизм был на виду, коммунизм был закрыт. Что, допустим, делали в концлагерях, это было всем известно. Что делали в концлагерях и тюрьмах НКВД, никому не известно, это было закрыто. Этого не знали, это покрывали, об этом врали. Я не думаю, что это было лучше. И я не думаю, что жертв было меньше. Я думаю, что жертв было больше, намного больше. Немцы ведь исполняли то, что им приказывали, а у нас это делали даже по собственному желанию. Это так приятно — попытать, поубивать».
После этих слов ее дальнейшая жизнь в СССР была невозможна. Они со Щедриным получили литовское гражданство (предки Майи Михайловны происходили из досоветской Литвы) и стали жить в Мюнхене. Правда, специально обученные доброжелатели дотянулись и туда - по отношению к Щедрину была развернута изощренная травля.
«Послушайте, я 46 лет на вас работала, на эту страну — и все впустую, — кипела Плисецкая. — Мне Галя Вишневская еще когда говорила: уезжай, они тебя все равно выбросят. И представьте: так все и случилось. Ставить ничего не давали. Написала письмо Горбачеву. Очень короткое и серьезное письмо. Он мне не ответил. Это и был ответ: катись-ка ты отсюда. Я и укатилась. Честно говоря, приезжать часто нет желания. Когда видишь это все из прекрасного далека, не так больно. Не знаю, кому на Руси жить хорошо. По-моему, никому. Меня эта страна растоптала. Здесь всегда все было против человека. Новое поколение, я думаю, будет другим. Им неведом этот адский страх. Как-то Ойстраху задали вопрос: как вы могли подписать какое-то ужасное письмо, вступить в партию? Он ответил: “У нас в доме, где я жил, было девять этажей. И каждый раз в 5–6 часов утра где-то останавливался лифт. Это означало, что этих людей пришли арестовывать. Мы жили на девятом этаже. И вот как-то шел лифт — все слушали, где он остановится. Застыл на восьмом этаже. И действительно людей там забрали. После этого я готов был подписать все”. Теперешние люди не знают того времени, когда сто миллионов просто так погубили».
В «Коде», последней главе своей всесторонне насыщенной книги, Инесса Плескачевская пишет:
«Вы обратили внимание на слова о том, что художник должен чувствовать время? Плисецкая так и говорила: «Необходимо по-своему отразить свое время. Сейчас нельзя писать такую музыку, как в девятнадцатом веке. Нельзя сейчас и танцевать, как в веке девятнадцатом. Ведь даже говорим мы уже не так. Каждому художнику необходимо создать свою манеру, свой стиль и никого не копировать».
Майе Плисецкой это удалось не просто в полной, а в высшей, запредельной для человека мере. И это главная мысль книги, которую написала Инесса Плескачевская.