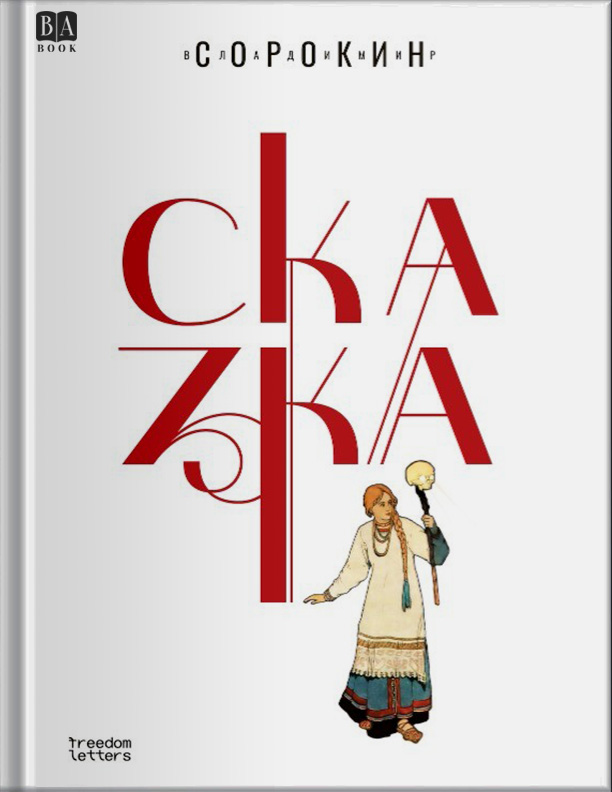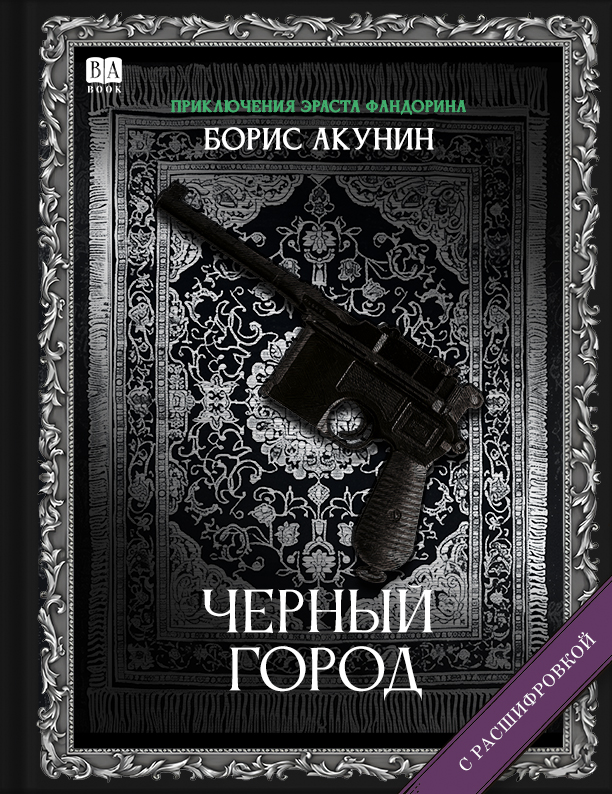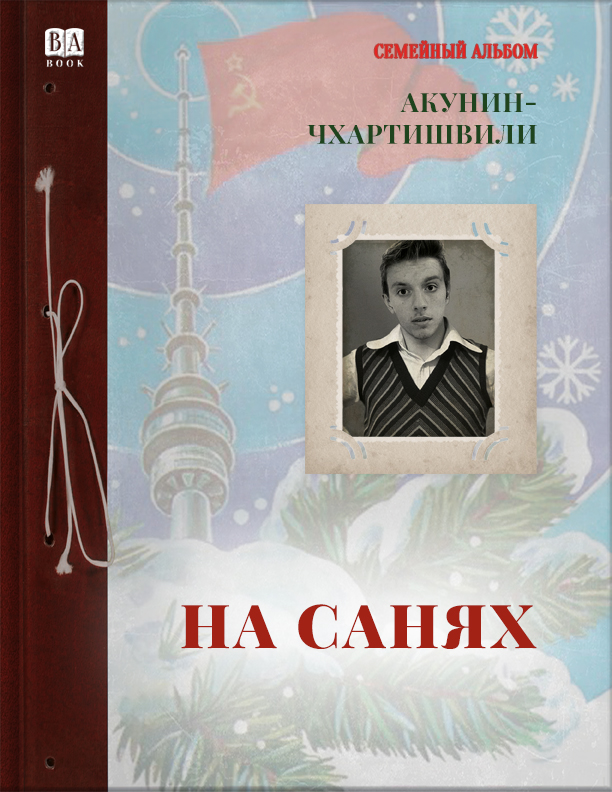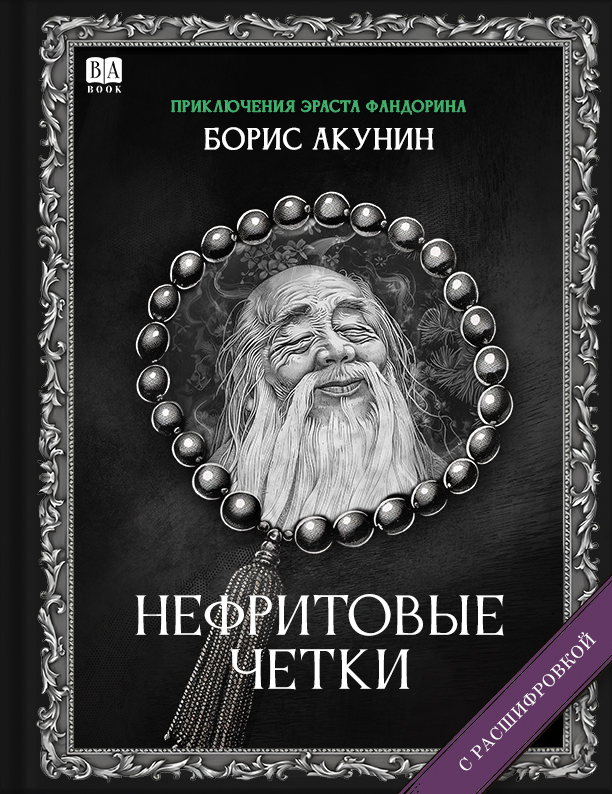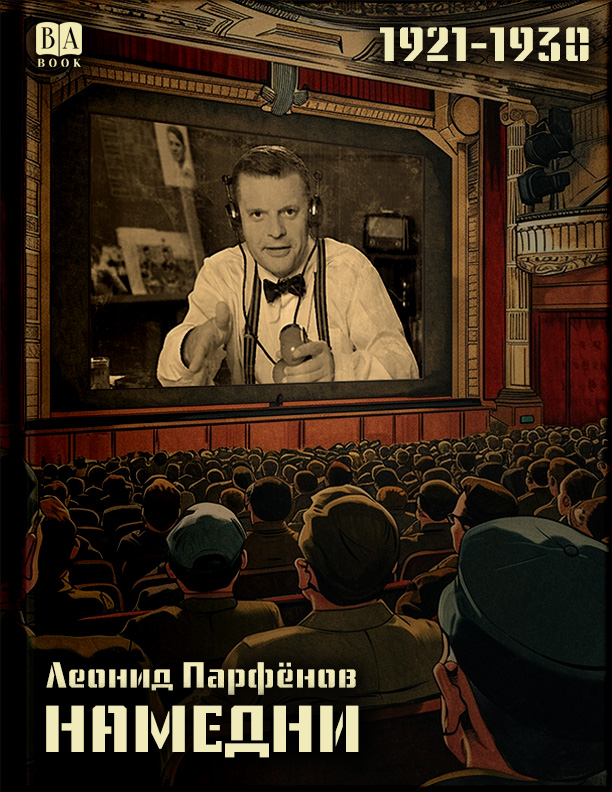МОЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ. ЕВГЕНИЙ БРЕЙДО
«ОГРОМНЫЙ ЧЕЛОВЕК, РАСТОЧИТЕЛЬ СЛАВЫ»
Число книг о Наполеоне так велико, что появление еще одной не может не вызвать вопроса: да что же еще можно о нем сказать? Вопрос этот естественным образом возникает у человека, который читает только по-русски, не интересуется специальными историческими исследованиями и составил себе впечатление о Наполеоне по роману Льва Толстого, то есть в духе российского патриотизма (яростным противником которого, впрочем, являлся Толстой). Так что и книга американского писателя Евгения Брейдо (в прошлом научного сотрудника Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН, преподавателя МГУ, лингвиста и специалиста по теории стиха) «Мой Наполеон» (Киев: «Друкарський двiр Олега Федорова. 2024) именно такой вопрос и может вызвать.
Однако вопрос этот исчезает, как только в первой же входящей в эту книгу повести «Театр Аустерлица» появляется описание того, как Наполеон обдумывает сражение.
«Мысль стремительно летела вперед и была точна, кажется, он поймал за хвост эту жар-птицу. В такие моменты, а он знал их хорошо, все суетное отступало, мелкое тщеславие и безбрежное честолюбие его больше не имели значения, так же не было смысла ни в победе, ни в поражении: маленький смирный Наполеон просто следовал за мыслью как послушный ученик. Важна была только она одна, решение уже существовало объективно как данность, как предмет — стена или стол, и больше никак от него не зависело».
Что автор не просто пытается «забраться в голову Наполеона», очевидно сразу. Но в чем состоит его писательский метод, становится понятно позже.
Пока же он исследует мышление своего героя через вымышленные диалоги. Вот один из них:
«— Поэтому вы возвращаете изгнанных из Франции аристократов?
— Я возвращаю только тех, кто не воевал против нас. Сейчас, когда феодализма больше нет, аристократия безобидна. Но она необходима. Это сословие воспитано в понятиях чести, им не нужно объяснять, что такое величие, слава или милость к побежденным. Иначе нам останется узнавать про благородство разве из трагедий Корнеля или поэм Оссиана».
Такой же мысленный диалог происходит у Наполеона с русским царем в повести «Отречение»:
«— Ваше величество, почему вы так стремитесь меня уничтожить? Ведь у меня было столько возможностей уничтожить каждого из вас, но я сохранил ваши троны и алтари. И ваши жизни. А сейчас я хочу просто мира, мы все устали от войны.
— Здесь все очень просто, — ответил Александр с обычной своей тонкой и любезной улыбкой. Ваше величество не понимает саму суть монархизма. Это закрытый клуб. В него нельзя вступить. Монархом можно только родиться. За вами нет священного права, поэтому вам нельзя позволить царствовать. Вас короновала революция, следовательно, вы нелегитимны.
— И вы боретесь со мной, потому что я — сын революции?
— Ну да. Мы никогда не признаем вашей империи. Но главное даже не это — главное страх. Мы столько натерпелись, пока думали, что вы непобедимы. Вы нас не уничтожили, когда могли, поэтому теперь все вместе мы уничтожим вас».
И наполеоновский бригадный генерал Жатто, в прошлом еврейский мальчик Дзятковский из польского штетла, говорит своему императору, что «в войсках князя Понятовского он всегда будет «жидом», а у Мюрата он французский генерал, равный среди равных», - и тот соглашается: «Для меня существует только сам человек с его верностью, талантами и счастьем» («Жатто»).
«Прошло уже почти 200 лет как Наполеон умер, а яснее не становится, хотя и равнодушным эта история по-прежнему мало кого оставляет», - замечает Евгений Брейдо. Он подробно анализирует наполеоновские грубые ошибки и просчеты, главными из которых считает континентальную блокаду, войну в Испании и русский поход. Правда, саму по себе войну, понятие которой в сознании человечества прочно связано с Наполеоном, автор не считает его преступлением.
«Дело в том, как люди того века относились к войне. От добрейшего, как говорили сослуживцы, генерала Кульнева потомству осталась такая фраза: «Матушка Россия тем хороша, что хоть в одном углу ее да дерутся». Не меньше четырех тысяч лет война была самым прославляемым из человеческих институтов. На самом деле, конечно, больше, но у нас мало письменных источников. Военная доблесть возводилась в ранг добродетели. Молодежь из высших сословий учили в основном тому, что могло пригодиться в сражении, потому что настоящей жизнью была война. Наполеоновская эпопея пришлась как раз на смену эпох — новый жизненный уклад еще не успел вытеснить старый, а краеугольное для дворянской морали понятие чести пока не подвергалось сомнению никакими умниками. В то время война считалась славным делом, была привычным способом решения проблем и почти единственным достойным занятием для мужчины — и самые блестящие люди и те, кто похуже, носили военный мундир. Однако эпоха, которую армии Наполеона несли на штыках, изменила отношение к войне — из любимой игрушки человечества она стала проклятием. Хотя воевать не перестали. А потомство, как водится, принялось порицать императора за собственные грехи. <…> Родись он в другое время, ни за что бы не стал воевать. Бесстрашие — не одна только храбрость в бою, но и отчаянная смелость мысли, не знающей преград, и решимость додумывать всё до конца».
Напоминает автор и о других, важнейших, последствиях деятельности Наполеона, главным из которых считает принесенный им в Европу Гражданский кодекс, утвердивший равенство людей перед законом, сделавший невозможным возврат к феодальному праву и заложивший глубинные основы, на которых стоит современный Евросоюз.
«Кажется, это первая реальная попытка создать общество меритократии. Сразу после феодализма, общественного строя, когда потолок возможностей человека определялся уже при рождении, построить общество, в котором сыновья крестьян и трактирщиков становились маршалами Франции — можно ли было вообразить что-то более невероятное? Революция отменила потолок, а заодно разрушила пол, так что можно было с равной вероятностью и воспарить, сделав фантастическую карьеру, и рухнуть в преисподнюю, лишившись жизни, причем часто вначале первое и потом сразу же второе. Наполеон восстановил пол, т. е. никто больше не опасался внезапного ареста и казни, законодательно закрепил неограниченные новые возможности и создал поколение отчаянных честолюбцев, готовых на все ради славы».
Евгений Брейдо берет эпиграфом к повести «Отречение» строки Дениса Давыдова:
«Был огромный человек,
Расточитель славы».
И полагает, что расточителем власти Наполеона (кстати, велевшего убрать из французских словарей слово «невозможно») можно назвать с таким же основанием.
«Поразительно, до какой степени этот человек, видимо, умевший обращаться с властью лучше любого другого в Новейшей, а может быть, и во всей Истории, за нее не держался. Она никогда не была ему нужна сама по себе. Это всего лишь инструмент, который годен только до тех пор, пока с его помощью можно делать что-то полезное. <…> Все диктаторы до последнего держатся за власть, за полтора века ни один не ушел, не залив страну кровью. Этот ушел за полтора дня, не выговорив себе никаких условий».
Но главным Евгений Брейдо считает в этом великом человеке его отношение не к власти, а к чести, которое, собственно, и сделало его великим.
«Чем была для Наполеона честь? Военным кодексом поведения, римской доблестью, гражданской добродетелью? Наверное, всем сразу. Но больше всего совестью и достоинством. Вокруг нее строилась личность. Для Наполеона-правителя честь — еще и средство возродить мораль в развращенном и униженном обществе, обезумевшем от крови, коррупции и нищеты. Что делают с людьми годы революции, лучше всего знают те, кто в революционном или послереволюционном обществе жил. Его обращение к суровым римским добродетелям и к военной чести как общественному идеалу кажется слишком романтическим и отдает манипуляцией, но ведь сработало. Общество Империи было не в пример человечней и честнее революционного. Доносы, воровство, предательство перестали быть нормой жизни. Их место прочно заняли уважение к закону и к заслугам. Что до манипуляций, то имен политиков, которые к ним никогда не прибегали, мы не знаем. Не потому, что таких нет, а потому, что они ничего не совершили. Наполеону удалась еще одна невероятная вещь — возвращение большой части эмигрантов и примирение вчерашних врагов. Многие стали товарищами по оружию, другие просто согражданами. К сожалению, ничего подобного ни в советском, ни в постсоветском обществе не произошло. Ложь никуда не делась, а неразличение добра и зла, чести и бесчестия стали своего рода основой общественной жизни. Странные сопоставления возникают иногда в голове».
Эти сопоставления, совсем не странные, возникают у автора в его записках «Мой Наполеон», давших название книге. Он пишет о том, как ребенком играл вечерами на пустой кухне - водил полки в атаку, стоял на высотах Аустерлица и на Поклонной горе, и воображение его было неистовым, как атака польских гусар под Сомосьеррой, и интереснее этих тайных игр были только мысли и разговоры Наполеона. Вспоминает о своей беззаветной юношеской влюбленности в человека, который «весь загадка и слава». О том, как «уважал Ленина за бессмертную фразу «надо ввязаться — там будет видно», пока не узнал автора». В пандан к своим воспоминаниям Евгений Брейдо замечает, что «представить Наполеона среди тоскливой советской пошлости примерно так же легко, как седло на корове или Вандомскую колонну на колхозном поле», однако «этот помешанный на чести» подсказал ему, как себя вести, когда его исключали из комсомола:
«Я вдруг оказался далеко от стола с салтыковскими рожами, от комнаты, где меня судили, а когда вернулся, чувствовал только брезгливое презрение. Скорее всего, именно так смотрел Наполеон на Фуше, Талейрана или губернатора Лоу. Не вступая в дискуссию, просто вытащил из кармана комсомольский билет, кистью левой руки, как камешек по волнам, запустил его вдоль длинного дубового стола и молча вышел из комнаты».
Все это вошло в него так глубоко, что стало определять собою самые тонкие внутренние явления - и творчество в том числе.
«Юноша, беззаветно влюбленный в Наполеона, давно повзрослел. Кухонные игры и комсомольские игрища закончились. Другой век —императорская свобода действия обернулась свободой мысли, и за нее тоже приходится платить. В творчестве экспансия неизбежна, хотя не связана с насилием, поэтому, в общем, безобидна. Наполеоновский подход из оружия становится методом».
Так что герой этой книги определил и то, как она написана.