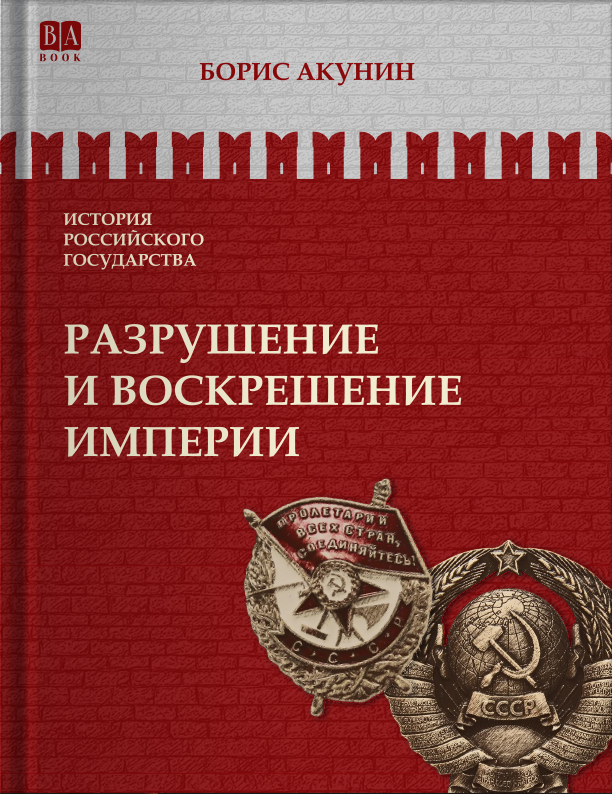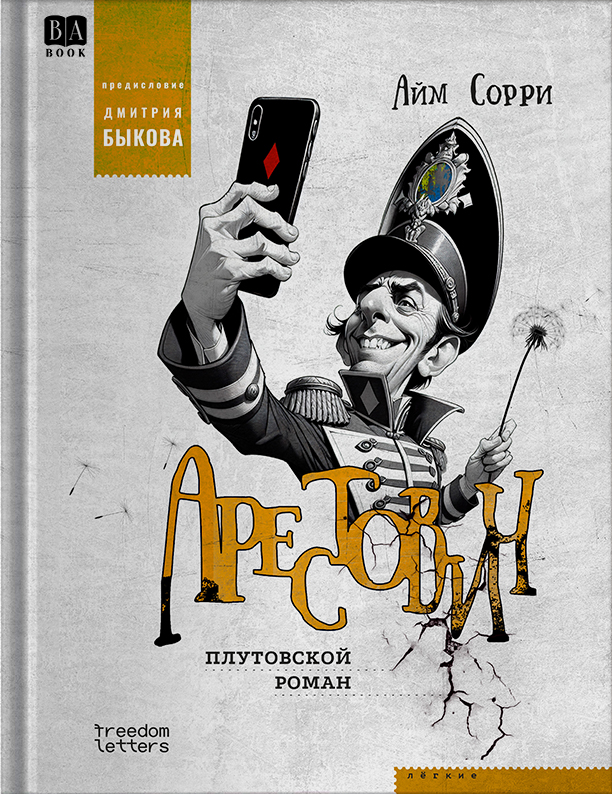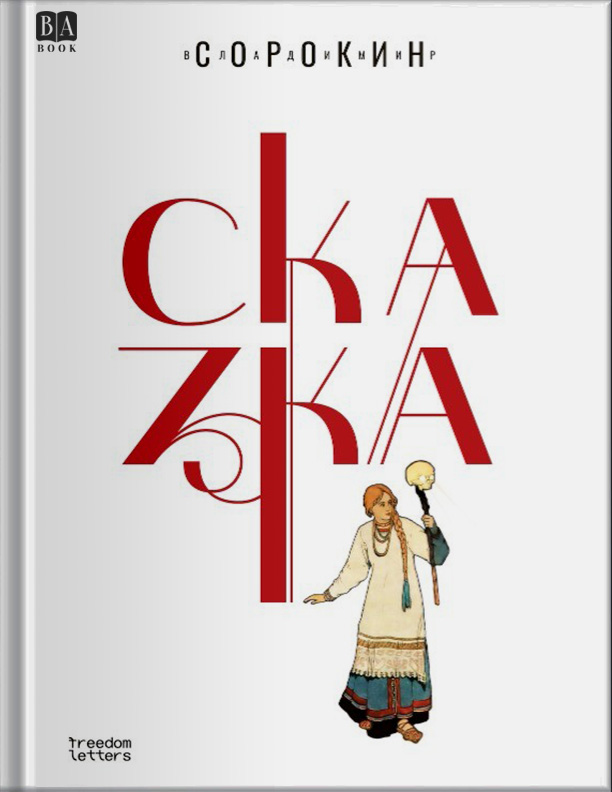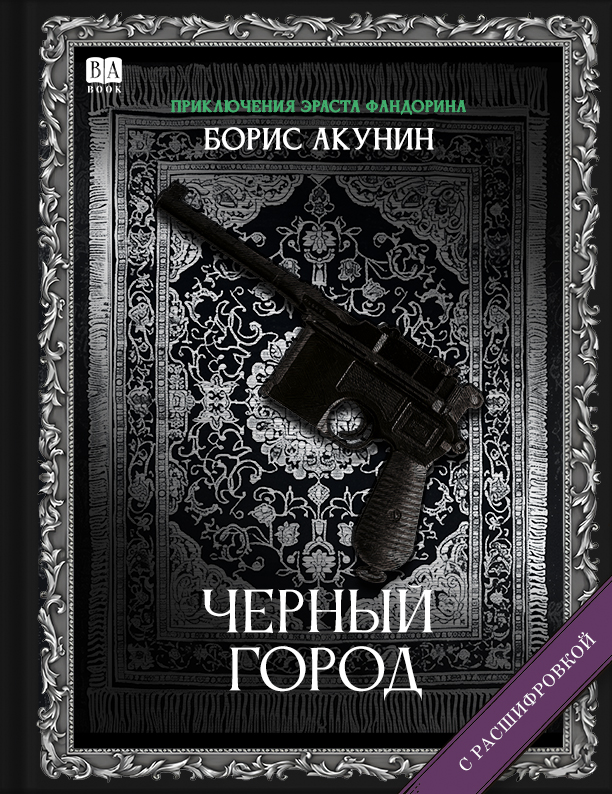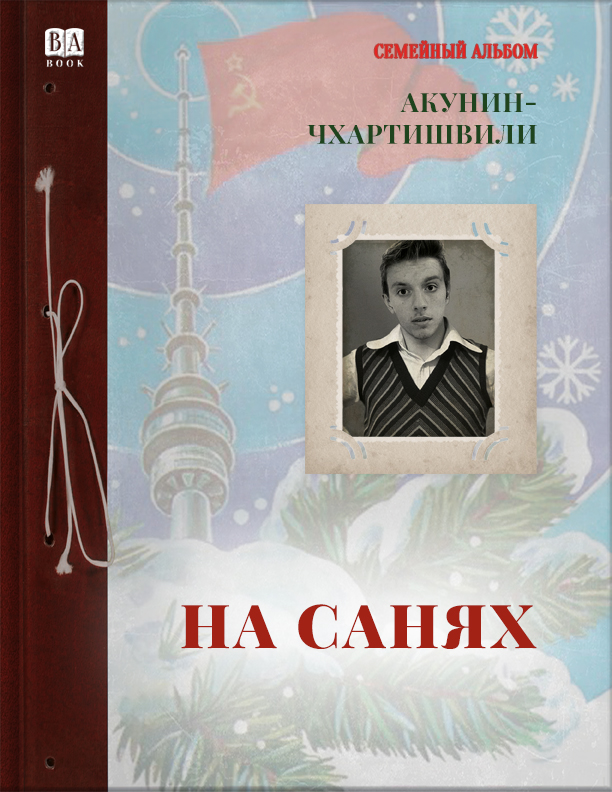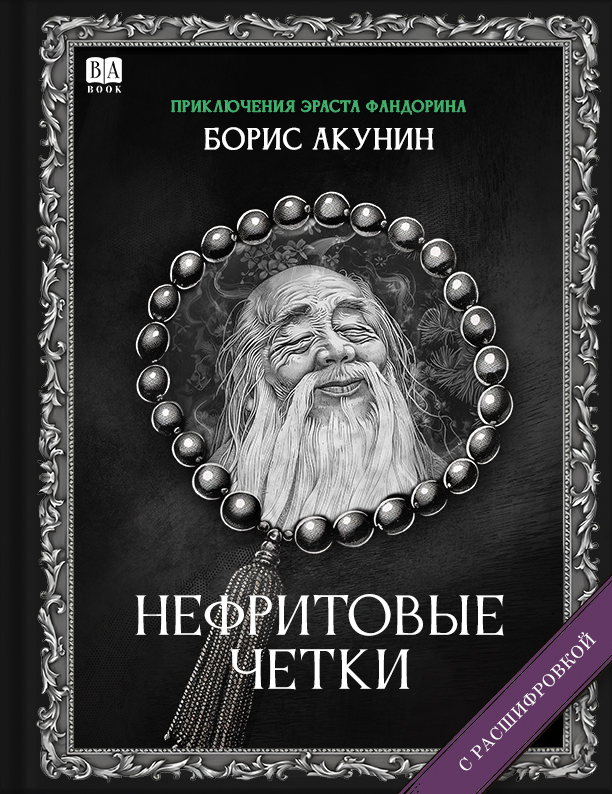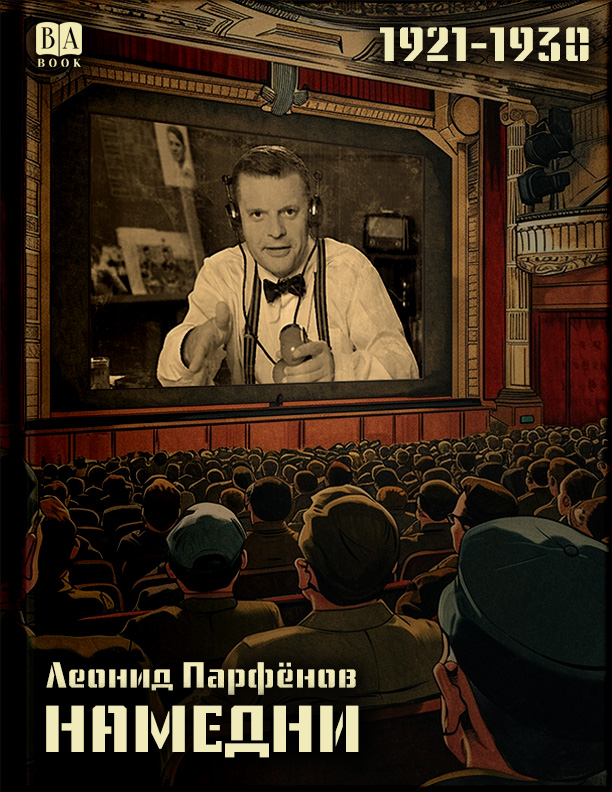Сергей Гандлевский. «Дорога №1 и другие истории»
Мы продолжаем публиковать книгу книгу Сергея Гандлевского «Дорога №1 и другие истории». Книга будет публиковаться долго, больше месяца. Напомним, что эту рубрику мы специально сделали для российских читателей, которые лишены возможности покупать хорошие книжки хороших авторов. Приходите каждый день, читайте небольшими порциями совершенно бесплатно. А у кого есть возможность купить книгу полностью – вам повезло больше, потому что вы можете купить эту книгу и еще три других, поскольку это четырехтомое собрание сочинений Сергея Гандлевского.
Читайте, покупайте, с нетерпением ждем ваши комментарии!
Редакция Книжного клуба Бабук

О Бахыте

В марте 2023 года я был в Нью-Йорке и в очередной раз поселился у Лены Мандель и Кенжеева, в его кабинете с окнами на Вашингтон-Сквер-парк. Но кроме радости от свидания и благодарности друзьям за гостеприимство, помню и пустячную досаду: Бахыт вконец обленился и вместо того, чтобы выгуливать товарища по этому умопомрачительному городу, заходил ко мне еще до полудня со словами: «Серженька, я не собираюсь тебя спаивать, мы просто выпьем по рюмке». Мы действительно знали меру и не перебарщивали, но и гулять не гуляли, а трепались до вечера, когда возвращалась со службы Лена, и наставало время ехать в гости или на какое-нибудь литературное сборище.
Знал бы я, как вырастут в цене часы этого дружеского трепа всего через какой-то год с лишним!
Давным-давно, когда смерть еще не стала обиходным явлением, а была чем-то несбыточным, пугающим и манящим одновременно, мы с моим новым другом Сашей Сопровским стали захаживать на занятия университетской поэтической студии «Луч» (поклон через полстолетия с гаком ее руководителю Игорю Волгину!) Явственно возвышались над остальными студийцами два поэта: Алексей Цветков и Бахыт Кенжеев, оба в придачу писаные красавцы.
Не сводя с них влюбленно-ревнивых завидущих глаз, я, конечно, мечтал сойтись с ними покороче. Действительность превзошла мои ожидания – мы стали друзьями: Александр Сопровский, Бахыт Кенжеев, Алексей Цветков и я. Эта дружба в ряду главных и лучших событий моей жизни.
* * *
Вот стихотворение Бахыта 1971 года, которое я помню наизусть с тех самых пор:
Ты выздоравливаешь рано,
спешить не надо, перестань.
Еще затягивает рану
соединительная ткань.
И был я глуп невероятно,
и был беспомощен до слез,
но невозможный путь обратно
еще травою не зарос.
Калечит миг, а время лечит,
но я микстуру пью, ворча.
Невыносимо слушать речи
такого скучного врача.
Он исцеленье мне пророчит,
по капле сутки нацедив.
А я уверен — нынче к ночи
опять случится рецидив.
Любимая, что будет с нами?
Луна качает головой.
А я, заваленный словами,
забыл их все до одного.
Полынью, горечью, обманом
любовь колышется в груди.
Ты выздоравливаешь рано,
спешить не надо, погоди.
Дружба в юности торопится «жить и чувствовать» почти так же, как юношеская любовь – «чтобы дружба нежна и хромала с поэтической строчкой во рту…», как странно, но точно сказал спустя годы об этой жизненной поре Алексей Цветков. Но Цветков бывал наездами, а москвича Кенжеева мы с Сопровским нередко поджидали на химфаке МГУ у дверей кафедры коллоидной химии, и он выходил, и нередко со склянкой спирта, и очертания вечера прояснялись.
Разделяя с нами досуги тунеядства и строя из себя бонвивана, Бахыт в отличие от нас с Сопровским, с юности обеспечивал себя, трудясь на двух-трех работах одновременно. Он хорошо знал английский и был, помимо основной службы, сезонным групповодом при Интуристе и объездил с англичанами и американцами всю страну – Байкал, Ленинград, Ташкент и пр. Это занятие предполагало доносительство на подопечных иностранцев, и Кенжеев, вызывая неудовольствие начальства, из раза в раз писал в служебных отчетах, что Джон или Мэри Смит восхищались Московским метрополитеном, ВДНХ и т. п.
Бахыт и его ученые друзья-химики, вчерашние вундеркинды, практиковали проделки, позволяющие извлекать выгоду из разного рода советских отвратительных обыкновений. Например, эти умники подделали пропуска и ходили обедать в ВЦСПС, где стоимость, скажем, стакана сметаны зависела от этажа, где располагалась столовая, к которой чиновник был прикреплен. Метафора продвижения по служебной лестнице приобретала буквальное значение, реализовывалась, так сказать. И все это друзья-приятели проделывали весело, с глумливой улыбкой.
Самогоноварение на дому венчало вереницу маленьких хитростей, причем огненную воду добывали из мебельной морилки, и поллитра обходилась чуть ли не в 60 копеек! По сю пору храню в памяти красивое словосочетание «холодильник Либиха».
Вот стихотворение Бахыта, в котором слышна, по-моему, эта веселая и глумливая интонация:
в южной франции где в море
льются ленточки дорог
где свое дневное горе
лечит звездами ван-гог
происходит эта драма
он богат она скупа
ночь наследство телеграмма
связи с мафией стрельба
и кричит она рыдая
голос тоненький дрожит
у тебя у негодяя
труп в багажнике лежит
комиссар умен и молод
любит женщин пьет вино
утолив культурный голод
мы выходим из кино
как картина ну законно
обсуждают фильм друзья
к а к он там у телефона
ну железно ни хуя
это полночь заговорщица
это русь мой нежный край
между креслами уборщица
собирает урожай
мы-то жизнь свою поносим
а она довольна всем
пять бутылок по ноль-восемь
и двенадцать по ноль-семь
1979
Или такое вот японское стихотворение. Или китайское:
В черной «Волге»
На заднем сиденье
Сидят трое
В одинаковых шляпах
Но были и другие стихи, и другие интонации:
Прошло, померкло, отгорело,
нет ни позора, ни вины.
Все, подлежавшие расстрелу,
убиты и погребены.
И только ветер, сдвинув брови,
стучит в квартиры до утра,
где спят лакейских предисловий
испытанные мастера.
А мне-то, грешному, все яма
мерещится в гнилой тайге,
где тлеют кости Мандельштама
с фанерной биркой на ноге.
1974
Начитанность стала частью его мастерства и изнанка его стихов, случается, радует внезапным узнаванием:
Но если бы ты был мудрец и книгочей!
Ты есть арбатский смерд, дитё сырых подвалов,
И философия витает над тобой,
Как серо-голубой стервятник с голой шеей…
Как не вспомнить библейский возглас — прообраз этого словесного оборота: «О, если бы ты был холоден, или горяч!»
Талант его, как мне кажется, отличался биографическим уклоном, то есть автор нуждался в реальном, а не воображаемом опыте. Догадываясь о характере своего дара, Кенжеев «просил бури» на свою голову, и когда лихо отвечало на его зов, разражался сильными стихами:
Всю жизнь торопиться, томиться, и вот
добраться до края земли,
где медленный снег о разлуке поет,
и музыка меркнет вдали.
Не плакать. Бесшумно стоять у окна,
глазеть на прохожих людей,
и что-то мурлыкать похожее на
"Ямщик, не гони лошадей".
Цыганские жалобы, тютчевский пыл,
алябьевское рококо!
Ты любишь романсы? Я тоже любил.
Светло это было, легко.
Ну что же, гитара безумная, грянь,
попробуем разворошить
нелепое прошлое, коли и впрямь
нам некуда больше спешить.
А ясная ночь глубока и нежна,
могильная вянет трава,
и можно часами шептать у окна
нехитрые эти слова...
Вообще, в будущей антологии эмигрантской ностальгической лирики Кенжееву по праву принадлежит почетное место.
Есть одно воспоминанье – город, ночь, аэродром.
где прожектора сиянье било черным серебром.
Наступал обряд отъезда за границу. Говорят,
что в те годы повсеместно отправляли сей обряд –
казнь, и тут же погребенье, слезы, и цветы в руке,
с перспективой воскрешенья в неизвестном далеке,
тряпки красные повсюду – ах, как нравился мой страх
государственному люду с отрешенностью в глазах,
и пока чиновник ушлый кисло морщил низкий лоб –
раскрывался гроб воздушный, алюминиевый гроб.
Полыхай, воспоминанье – холод, тьма, аэропорт,
как у жертвы на закланьи, шаг неволен и нетверд,
сердце корчится неровно, легкой крови все равно —
знай течет по жилам, словно поминальное вино —
только я еще не свыкся с невозвратностью, увы,
и, вступив на берег Стикса в небе матушки-Москвы
разрыдался, бедный лапоть – и беспомощно, и зло,
силясь ногтем процарапать самолетное стекло,
а во мгле стальной, подвальной уплывала вниз земля,
и качался гроб хрустальный, голубого хрусталя...
Проплывай, воспоминанье – юность, полночь, авион.
Отзвук счастья и страданья, отклик горестных времен,
где кончалась жизнь прямая в незапамятном раю,
к горлу молча прижимая тайну скорбную свою...
Или вот еще –
Киноархив мой, открывшийся в кои-то
веки – трещи, не стихай.
Я ль не поклонник того целлулоида,
ломкого, словно сухарь,
Я ли под утро от Внукова к Соколу
в бледной, сухой синеве...
Я ль не любитель кино одинокого, как повелось на Москве –
документального, сладкого, пьяного –
но не велит Гераклит
старую ленту прокручивать заново –
грустно, и сердце болит.
Высохла, выцвела пленка горючая,
как и положено ей.
Память продрогшая больше не мучает
блудных своих сыновей.
Меркнут далекие дворики-скверики,
давнюю ласку и мат
глушат огромные реки Америки,
темной водою шумят.
И, как считалку, с последним усилием
бывший отличник твердит –
этот в Австралию, эта – в Бразилию,
эта – и вовсе в Аид.
Вызубрив с честью азы географии
в ночь перелетных хлопот,
чем же наставнику мы не потрафили?
Или учебник не тот?
При всей видимой кротости Бахыта отличало завидное самомнение, особенно смолоду (а может, оно и было причиной его добродушия, в отличие от неуравновешенности реваншиста Цветкова, к примеру). Вот несколько перлов из моей коллекции дружеского злопыхательства. В канун отъезда Кенжеева мы с Сопровским не на шутку поссорились, и примиряя нас, Бахыт сказал довольно серьезно, что нам бы надлежало не вздорить, а, радоваться, пока жених с нами. А чего стоит строчка «Дельвиг умер, Алеша уехал»!? Или вот. В один из его приездов, угощаясь за Бахытов счет чуть ли не в ЦДЛ, я спьяну наговорил вздора по поводу его новых стихов, после чего мучался похмельным раскаянием. Но спустя два-три дня узнал от общей приятельницы, что Кенжеев, поминая мою критику, посмеивался надо мной, не доросшим-де до его зрелой лирики — и мне полегчало.
Но наряду с зазнайством самым простодушным и даже обаятельным, он был верен, терпим и внимателен в своей многолетней и многолюдной дружбе, будь то его любимцы – Петр Образцов, Александр Сопровский и Алексей Цветков, или какие-то вовсе не знакомые мне люди.
Был у них с Цветковым обычай еженедельной совместной трапезы под семейным кровом на Washington Square. Из года в год, кажется, по четвергам Бахыт жарил мясо и делал гарнир (он превосходно стряпал!), а Цветков приезжал на метро из своего Куинса с бутылкой и раз в неделю развязывал в смысле вегетарианства. Вероятно, смерть друга выбила Кенжеева из колеи особенно ощутимо: четверги-то с кончиной Цветкова не прекратились, а шли и шли своим чередом…
Его вид и повадки могли ввести в заблуждение. Глядя на человека, за чьим портфелем нередко волочился по мостовой компьютерный провод, воображение дорисовывало этакого Паганеля. Ничуть. Практичность была его idée fixe. Во время путешествия по Грузии пятьдесят лет назад он научил меня взять билет из Кутаиси не до Москвы, куда мне, собственно, и надо было, а до Ленинграда, чтобы в течение недели иметь право скататься в Ленинград всего за рубль, – и мне эта мудрость влетела в копеечку, как и всякая заемная мудрость.
Как-то мы съездили с ним глубокой осенью в Карелию на брусничный промысел. Я был уверен, что намучаюсь с этим насквозь литературным беспомощным горожанином – не тут-то было: я едва поспевал за ним, так споро и сосредоточенно собирал Бахыт грибы и ягоды. А на Черном море в 1980 году Бахыт кормил компанию вареными мидиями. Так что он был очень даже от мира сего, и, в соответствии с наблюдением Набокова, “как большинство стареющих поэтов… склонен к простой человеческой логике”.
Поэтому щедрость его и забота были продуманы до мелочей и не заканчивалась пшиком, как нередко случается с прекраснодушными порывами. Взять хотя бы организованные им в 2018 году гастроли Алексея Цветкова, Эргали Гера, мои и его самого в Алма-Аты, оставившие по себе самую светлую память.
У него была репутация балагура, я его шутливости недолюбливал, шутил он, на мой вкус, однообразно и как-то из-под палки. Долгие десятилетия я подозревал и остался при своем подозрении, что за этой неизобретательной шутливостью скрывается невеселый созерцательно-элегического склада человек, решивший в юные годы как бы взять напрокат расхожие поэтическое замашки: фатовство, винопитие, волокитство и т. п., и с годами освоившимся с этой бутафорией и ее присвоившим. Но его близкие знали, любили и чтили другого Бахыта – человека глубокого, высокой порядочности и ответственности за свои слова и поступки. Он был любвеобилен, но любвеобильных много, а Бахыт всех своих детей поддерживал материально и дружески, по-отцовски. Не совсем обычное донжуанство.
В 1980 гг. в демисезонную пору и зимой я, случалось, снимал дачу в ближнем Подмосковье вскладчину с кем-нибудь из знакомых. Один год — на пару с Кенжеевым, так что подоплека этого стихотворения мне знакома и близка:
В Переделкине лес облетел,
над церквушкою туча нависла,
да и речка теперь не у дел —
знай, журчит без особого смысла.
Разъезжаются дачники, но
вечерами по-прежнему в клубе
развеселое крутят кино.
И писатель, талант свой голубя,
разгоняет осенний дурман
стопкой водки. И новый роман
(то-то будет отчизне подарок!)
замышляет из жизни свинарок.
На перроне частушки поют
про ворону, гнездо и могилу.
Ликвидирован дачный уют —
двух поездок с избытком хватило.
Жаль, что мне собираться в Москву,
что припаздывают электрички,
жаль, что бедно и глупо живу,
подымая глаза по привычке
к объявленьям — одни коротки,
а другие, напротив, пространны.
Снимем дом. Продаются щенки.
Предлагаю уроки баяна.
Дурачье. Я и сам бы не прочь
поселиться в ноябрьском поселке,
чтобы вьюга шуршала всю ночь,
и бутылка стояла на полке.
Отхлебнешь — и ни капли тоски.
Соблазнительны, правда, щенки
(родословные в полном порядке)
да котенку придется несладко.
Снова будем с тобой зимовать
в тесном городе, друг мой Лаура,
и уроки гармонии брать
у бульваров, зияющих хмуро,
у дождей затяжных, у любви,
у дворов, где в безумии светлом
современники бродят мои,
словно листья, гонимые ветром.
1981
* * *
Стихи стихами, но вспоминаются еще кое-какие колоритные подробности того добрососедства. Мы с Бахытом жалели Николая Ивановича, хозяина дачи и подкаблучника, которого жена и дочь гоняли дважды в неделю с противоположного конца Москвы автобусом, метро, электричкой в Переделкино поливать цветы, а на самом деле проверять, сохранно ли имущество — цветы мы и сами могли полить. Тогда один наш знакомый был арестован за прозу, опубликованную в «Континенте», и мы с Кенжеевым в присутствии вооруженного пластмассовой лейкой Николая Ивановича обсуждали волнующее нас событие: поиски адвоката и т. п., а через слово – пропажу моей собаки. Внезапно «маленький человек» вмешался в разговор и пробормотал скороговоркой, что во время óно на его поприще адвокаты были ни к чему, а когда в войну у него пропала овчарка, он поднял на ноги весь Потсдам. Николай Иванович оказался бывшим прокурором по расстрельным делам.
* * *
По совпадению, которому я не придавал бы особого значения, в ночь смерти Бахыта Кенжеева я искал одну старую заметку в архиве компьютера, увидел, среди прочих названий, заголовок «о Бахыте» и заглянул в этот файл:
«Бахыт Кенжеев заворожен собственным лиризмом. Это переживание и сделалось, пожалуй, его главной поэтической темой. Такое нарциссическое мировосприятие, казалось бы, чревато безвестностью и авторским одиночеством. Но странное дело: талант, самоотречение и упорный труд выдвинули Кенжеева в ряд лучших нынешних поэтов и снискали ему любовь многочисленных читателей».
Вероятно, это писалось как реплика на обложку; скорей всего, он прочёл эти четыре предложения; надеюсь, они его не огорчили.
Понятное дело, всякого лирика занимает, как красота или увечье, его отличие от прочих людей, но для Кенжеева, по-моему, эта его исключительность была особенно значима.
Он родился, чтобы стать поэтом, и больше, чем кто-либо из моих знакомых лириков, хотел и жизнь прожить поэтом. И то, и другое ему удалось.
* * *
Бахыт был религиозным человеком.
Стихотворение, которым я хочу завершить этот очерк, — хороший духовный автопортрет Бахыта Кенжеева, а заодно – краткий перечень преобладающих тем и ландшафтов его искусства: родной город, ненастье, родная литература, упование на бессмертие в сочетании с мужественной мыслью о неизбежном конце.
Смотри сгущается зима
Неслышно вьется серый снег
Лежит холодная тесьма
По берегам покорных рек
И Гоголь скрюченный в углу
Нагар снимает со свечи
И спички ищет на полу
В неверной ветреной ночи
Потом суставами скрипя
Садится в кресло и опять
Не то что бы казнит себя
Но начинает смерти ждать
А месяц что огромный шар
Влетает в низкое окно
Чернеет ветками бульвар
И даже Господу темно
Вслепую по ночным камням
Он входит в свой последний сад
Метели не бывает там
Цветет полынь и виноград
Усталый дремлет ученик
И Гоголь дремлет за столом
Горит камин сидит старик
В халате старом голубом
А где же где же место мне
Не за столом и не в саду
Один в метельной тишине
Бульваром сгорбленным иду
А вот и белая доска
На старом доме у ворот
Носатый профиль старика
Высокий лоб угрюмый рот
Прощай любимая метель
Арбат в начале ноября
Автомобиль ушел в тоннель
Напрасно фарами горя
В конце тоннеля нежный свет
В кармане детский леденец
И даже если смерти нет
Она приходит наконец.
2024
Купить книги Сергея Гандлевского
Том I | Том II | Том III | Том IV