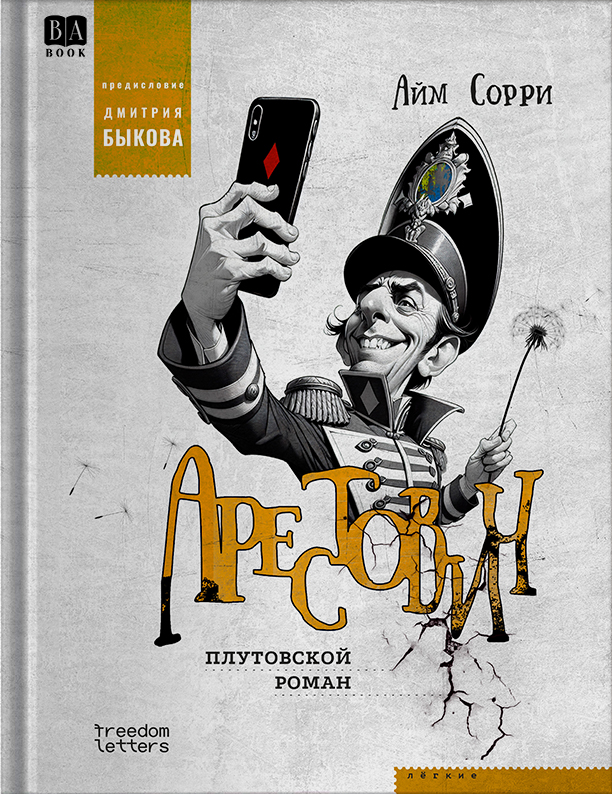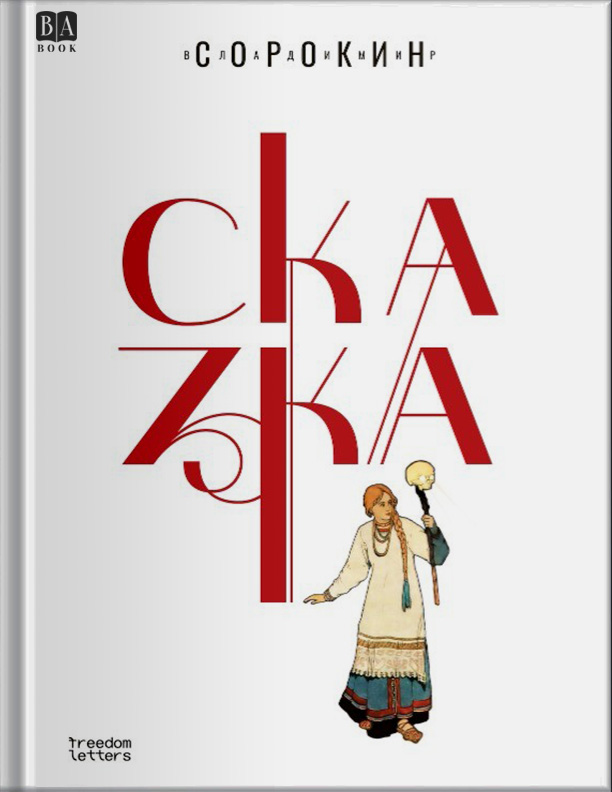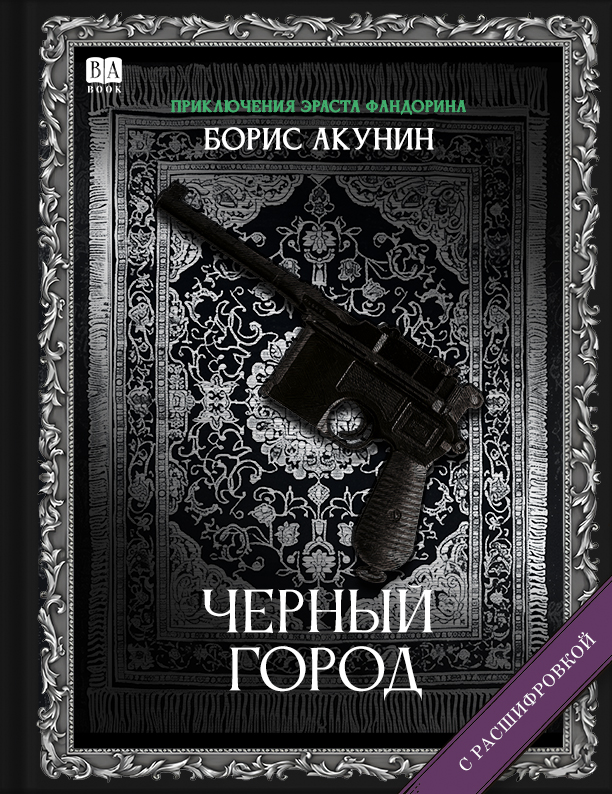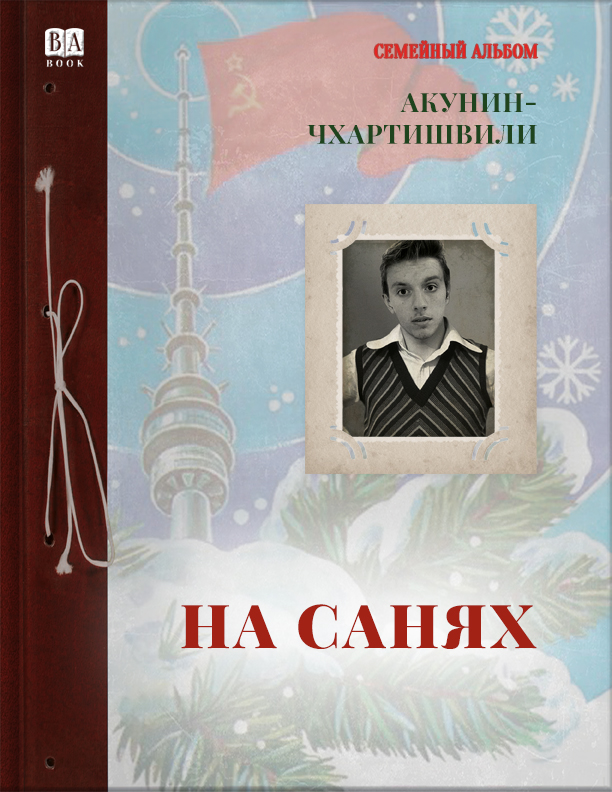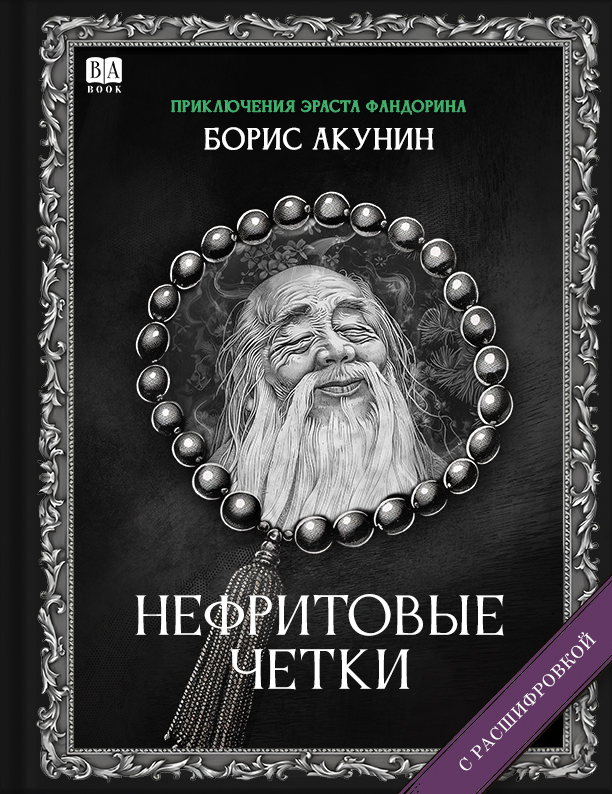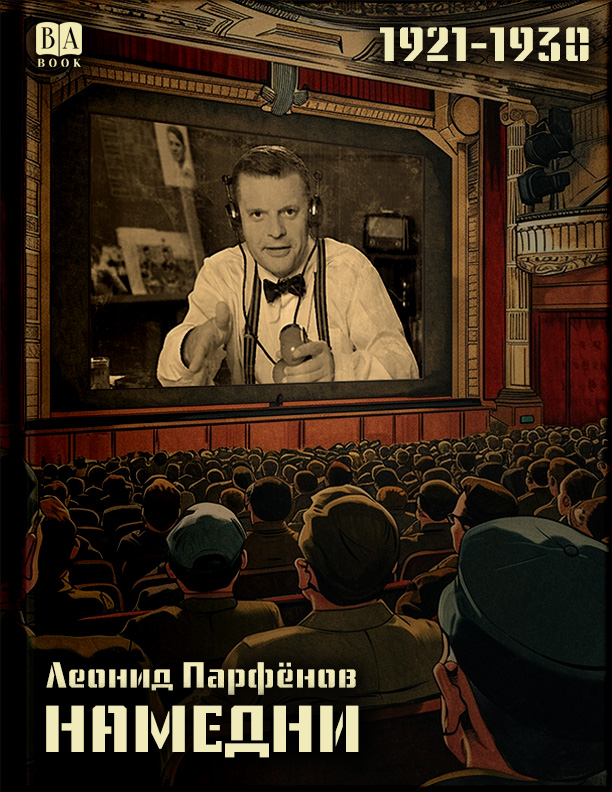МОЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ. АЛЕКСАНДР СТЕСИН
ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ
Книги, написанные в жанре, который появился совсем не сейчас, но который сейчас стало принято называть автофикшном, для читателей все равно что «Черный квадрат» Малевича: отовсюду несутся уверенные возгласы «я тоже так напишу», и мало кому приходит в голову, что «так» не получится. Автор же под яркий свет искусства выходит в этом жанре абсолютно без оружия. Ни увлекательный сюжет, ни грамотно выстроенная арка героя - ничто не отвлекает читательского внимания от того, что, собственно, в искусстве только и значимо: от личности художника, его мыслей и чувств, его понимания жизни.
В отношении Александра Стесина дело не в том, что он не боится яркого света жанра (по недомыслию-то его как раз многие не боятся), а в том, что в этом беспощадном свете его тексты сияют бриллиантами чистой воды. Абсолютно все, и новая книга «Рассеяние» (М.: Новое литературное обозрение. 2024) тоже.
Хотя слово «тоже» к ней совсем не подходит: она грандиозна и сама по себе, и тем, что не повторяет ни одну из прежних его книг.
Хотя были все шансы именно повторить, и не свои книги даже, а то, что принято у израильских и американских евреев вообще, - паломничество в места, где жили предки, тиюль шорашим, «путешествие по корням». Но повторения не произошло.
Хотя начиналось, как у всех - автор поплевал в пробирку, с интересом ожидая обнаружить в числе своих предков юкагира или еще кого-нибудь неожиданного, но получил другой ошеломляющий результат: еврей на 100%.
«Удивительное дело, если вдуматься: тысячи лет рассеяния — и никаких примесей, ни десятой доли процента. География, язык, культурная самоидентификация могут быть какими угодно, но — кровь, кровь… Значит ли она хоть что-нибудь? Что-то да значит. Результаты анализов 23andMe лишний раз напоминают о том, что все предначертано в генах — от диабета до потливости, от дальтонизма до черт характера. Непредопределенного остается совсем мало: возможность совершить неожиданный поступок, выйти из зоны комфорта и что-то понять. Кого-то полюбить. Вот и все по части индивидуальности и свободной воли существ, созданных по образу и подобию. <…> Что ты — потомок всех своих предков, деда, прадеда, Шемайи Беташа, Иакова, Исаака, Авраама; что было время, когда их сознание было первично, а твое будущее существование было лишь смутным помыслом о гипотетическом потомке, лишь отдаленной возможностью, слабым отголоском их первичности. Это успокаивает и примиряет c окружающей тебя энтропией; в сущности, это — самая радостная мысль за долгое время. Радостно осознавать, что молитвы, которые ты сейчас произносишь, а точнее поешь, пели твои предки триста и тысячу триста лет назад, и в этой непрерывности — твоя непостижимая точка опоры».
С этой мысли у читателя может и должно начаться понимание того, что ему не будет представлено обычное «путешествие по корням». У автора это понимание безусловно. Собственно, он с самого начала своих разысканий сознает, что сами по себе они мало что значат:
«Выстраивание семейного древа превращается в нечто вроде компьютерной игры — так же затягивает и так же лишено смысла. Кому нужны все эти имена, о чем они нам говорят? А главное, что делать с непостижимым и неопровержимым фактом: все эти Либы-Миры и Мойше-Мееры — мои предки? Никаких истин тут не извлечь. Но игра затягивает, и надо продолжать. Отец моего прапрадеда Хаскеля Шмуклера — Аврам Шмуклер (1843–1888). Он умер от астмы в возрасте 45 лет, через год после женитьбы Хаскеля и Марьям. А его отца — моего, стало быть, прапрапрапрадеда — звали Хаим-Арон Шмуклер, он был родом из Могилева. Все имена повторяются через поколение, как и положено у евреев. Либу-Мырлю, сестру прабабушки Сары Хаскелевны, назвали в честь их бабушки, Либы-Миры Кац, а брата Менахема — в честь их прадеда, Менахема Каца; Хаима-Арона — в честь Хаима-Арона. <…> А ведь когда-то, двести с лишним лет назад, этот Аврам или Хаскель, Кац или Колкер, целовал на ночь свою маленькую дочь и она была для него целым миром — вот чего никогда уже не вернуть, не воскресить, не приблизить. <…> Странный эффект: не вымысел заменяет факты, а, наоборот, факты — даты, имена — заменяют живую историю, семейное предание, сказку, которой больше нет. За эти живые нити хочется держаться, расплетать узелки непонятных связей. Искать проблески чьей-то давно исчезнувшей жизни в грудах мертвых фактов, которые со временем начинают казаться чем-то условным — формальностью, стандартным штампом».
Размах рассеяния, который становится Александру Стесину понятен при исследовании истории рода, лишь убеждает его в том, что здесь не может не быть какой-то очень сильной мысли - если применимо такое слово к тому, что таится в этой великой тьме. Может быть, его магрибский предок Шемайя Беташ больше других знал «о рассеянии Высшего Света и его эманациях, которыми иудейский мистицизм занимался еще со времен Рашби, ученика рабби Акивы. Каббала учит нас, что все в ответе за всех, деяния предков повторяются в судьбах потомков, Авраам отражается в Моисее. <…> Все повторяется, но структура мира определяется не цикличностью времени, а десятью сфирот, раз за разом собирающими рассеянный Первичный Свет. Древо сфирот — система соответствий и невидимых нитей, протянутых между мирами, через тысячелетия. Все, что есть, уже было и будет вновь, и любое возвращение — встреча с несуществующим собой».
Автор книги «Рассеяние» Александр Стесин далек от своего магрибского предка и во времени, и в пространстве. Но Средневековый Магриб, шанхайское гетто, Бессарабия перед Второй мировой войной, Приполярный Урал 40-х годов и Вена конца ХХ века, село Бобровый Кут в Херсонской области, советская Москва, США - этот диапазон слишком широк, чтобы не попытаться найти нечто такое, что объединяет рассеянных по нему родственников.
Но что это может быть? Попробуй определи, когда «восстанавливать историю нашей семьи — все равно что пытаться с максимальной точностью воспроизвести звучание речи Гомера. Творение из ничего», потому что «никаких фактов, свидетельств, очевидцев больше нет — или почти нет», потому что они «не Буэндиа и не Будденброки. Никакого постепенного упадка, угасания и вырождения, никаких Аурелиано с хвостом — об этом позаботилась история ХX века».
Семейная профессия? Точно нет. Семь поколений раввинов по отцовской линии, а дедушка, выживший на фронте чудом - буквально, без преувеличения - заложил после войны основу математической династии. Почему именно ее?
Язык? Рассеяние дает понять, что даже этот глубиннейший фактор не годится на роль объединителя:
«Я писал, что это Вавилонская башня, растянутая во времени. Но сейчас, прослеживая свою родословную, прихожу к мысли, что язык определяет бытие и сознание только на уровне отдельного звена; если же посмотреть на всю цепь, язык оказывается акциденцией, а не субстанцией. Субстанция от языка не зависит. Вот и мои многоязычные предки, встретившись в конце дней, когда вся диаспора соберется и праведники воскреснут волам аба, затараторят разом на всех своих языках — и все друг друга поймут».
Ответом-объединителем выглядит только кровь, загадочная игра генов. Но невероятно, основополагающе значительным кажется не этот самоочевидный ответ, а то, как Александр Стесин находит собственное место в этой бесконечной, максимально им прослеженной, но все равно теряющейся во тьме тысячелетий цепочке еврейских предков.
«Итак, история сточетырехлетнего всадника Шмуля, как и история погребения заживо в колодце Бобрового Кута, как и история родных Херсонского из Черновиц или евреев из Казимежа-Дольны, — про всех нас. Это, конечно же, и есть литература. Но, помимо литературы, есть еще мое личное желание восстановить конкретную историю семьи, отыскать частное в общем. <…> Складывается впечатление, что недописанные «главные книги» (дедушкин учебник по математике, мемуары тети Сони) — эдакий лейтмотив у Стесиных. Как у фейхтвангеровских Опперманов, чья главная реликвия — портрет патриарха в гостиной — ассоциировался у меня с памятным с детства дагерротипом прадеда-раввина. «Нам положено трудиться, но не дано завершать труды наши», — говорил Густав Опперман, цитируя Талмуд. То же самое мог бы сказать один из моих предков. И теперь, собирая по крупицам историю семьи, я испытываю странное чувство, как будто я таким образом дописываю за них».
Как дописать такую историю за тех, кто прошел то, что не просто не прошел ты сам, но что и не должен проходить человек? А человек точно не должен проходить через то, через что прошел дедушка Исаак Львович, которого как выходца из Румынии, «перемещенное лицо с западных территорий» отправили в 1941 году в лагерь на Приполярном Урале, где не было лазарета, умерших сбрасывали голыми в яму по двести человек и из пятисот человек отряда, в котором работал дедушка, выжило двенадцать.
«Просто нет глаголов, из которых можно было бы сплести повествование. Есть только безличный перечень существительных, каждое из которых — явленная вещь, воплощение ужаса. Учет, завод, подвозка, стройка, батальоны, бригады, смены, списки, бригадир, десятник, конвойные, плац. Земляные работы, бетонирование фундаментов, мартеновский цех, градирня, коксохимзавод, шлакоблоки, трубопровод, стекловата, цемент, песок, щебень, известковое молоко, свалка строймусора, терриконы, коксовые батареи, выложенные изнутри шамотным кирпичом. Утренний гимн из репродуктора, заводской гудок, дневная норма, трудовая книжка, политучеба, сторожевая вышка, барак, столовка, хлеборезка, раздаточное окно. Ихтиоловая мазь, глицерин, квасцы, банный день, вошебойные процедуры. Дистрофия, цинга, пеллагра, сыпной и брюшной тиф, ишиас, туберкулез, дизентерия, гепатит, энцефалит, обморожение, пятнистая лихорадка, гангрена, братская могила, тайга. Если б были глаголы, можно было бы попытаться представить здесь дедушку — найти место живому движению в этой тесной матрице пугающих существительных. Но все застыло, обледенело. Даже в другие, лучшие дни его образ двоится, потому что дедушка, которого я хорошо помню, несопоставим с тем, чью жизнь я открываю для себя сейчас, узнавая и домысливая все больше ее подробностей. Широта жизненного диапазона, представленная в биографии, не может вместиться в запечатленный памятью образ, потому что в любой точке своего пути человек сводится к этой точке. Но здесь, в уральской лагерной глуши, все ровно наоборот: все, что я вижу, и все, о чем читаю в скупых свидетельствах, настолько мертво, что поместить в этот кадр живой образ деда означало бы умертвить память о нем, уподобив ее стальной решетке существительных. Уж чего-чего, а этого я точно не хочу. И потому из всех возможных глаголов, которых здесь нет, я выбираю один, самый очевидный: он выжил. Вот и все, что мне нужно знать».
И вот, зная это, Александр Стесин, кажется, нащупывает единственный возможный способ, которым он, современный молодой человек, американский онколог, может пробиться к тому неназываемому, что стоит за историей его рода. Это не ответ, а именно способ понять. И этот способ, который им не то что даже понят, а от рождения в него встроен и исследованием лишь подтвержден, превращает его личное «путешествие по корням» (или автофикциональную прозу, если кому-то больше нравится) в искусство высокой пробы.
«Восемь лет назад я практически перестал писать стихи, решив, что привычная поэтическая форма вконец износилась, родная силлабо-тоника — атавизм, а верлибр — дело хорошее, но проза — просторней и многообразней. А в последние месяцы я, к собственному удивлению, снова начал баловаться виршами. Когда мир находится на грани исчезновения, мысли о том, что какая-то там форма себя изжила, кажутся нелепыми. Да и вообще любое искусство, а уж тем более рассуждение об искусстве, вдруг оказывается нелепым. «И все их разные искусства при нем не значат ничего». Все нелепо — кроме нелепых стихотворных строчек, которые сами собой лезут в голову».
Стихотворные строчки в книге «Рассеяние» тоже есть. Вот эти, например, «старые стихи про мальчика Мотла, написанные как дань эмигрантскому детству и памяти Шоа»:
Яд ва-Шем
Назидательных тостов патетика
и густой чикен-суп из пакетика.
Совмещая с молитвой еду,
соберется община нью-йоркская,
и дитя, между взрослыми ерзая,
песню схватывает на лету:
«…Были в землях, где власть фараонова,
мы рабами. Была Ааронова
речь темна, вера наша — слаба.
Дай же знак нам десницей простертою…»
Чикен-супом задумчиво сёрпая,
мальчик Мотл повторяет слова.
Повторение жизни мгновенное.
Засыпая, услышу, наверное,
как бушует соседка одна
во дворе, обзывая подонками
тех, кто песни горланит под окнами.
Как, вернувшись домой, допоздна
потрошит кладовую и мусорку.
Забывает слова. Помнит музыку
и пюпитром зовет парапет.
Отовсюду ей слышится пение.
Терапия — от слова «терпение»,
врач витийствует, неторопевт.
От Освенцима и до Альцгеймера —
никого (вспомнит: «было нас семеро»).
Давность лет. Отличить нелегко
год от года и месяц от месяца.
Но ждала. И раз в месяц отметиться
заезжал то ли сын, то ли кто.
Личность темная (в памяти — яркая);
вензель в форме русалки и якоря,
отличительный знак расписной,
на костлявом плече, рядом с оспиной.
«Все лечу по методике собственной.
Ни простуд, ни проблем со спиной».
Как с утра подлечив, что не лечится,
на бычками усыпанной лестнице
изливал мне, малóму, свое
алкогоре. Общаться не велено.
Поминальной молитвой навеяна,
канет исповедь в небытие.
…Мышцей мощной, простертой десницею…
Будет Мотлу рука эта сниться и
будет сниться еще на руке
то русалка наплечного вензеля,
то соседкина бирка Освенцима
(детям врали, что это — пирке).
…И явил чудеса… И усвоили:
будет каждому знак при условии,
что поверит — не с пеной у рта,
не как смертник, а как засыпающий
верит в будничный день наступающий,
в продолжение жизни с утра».