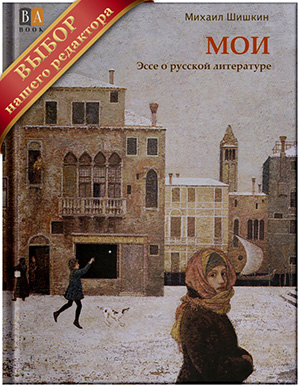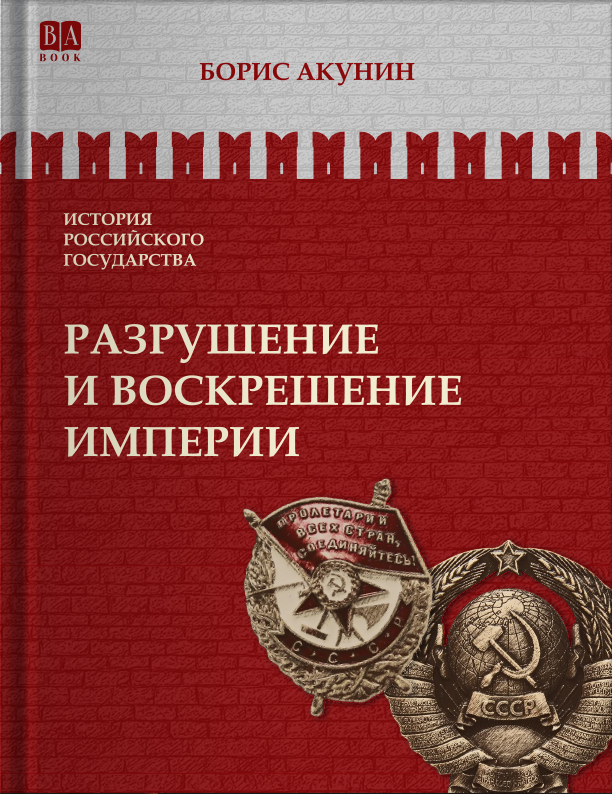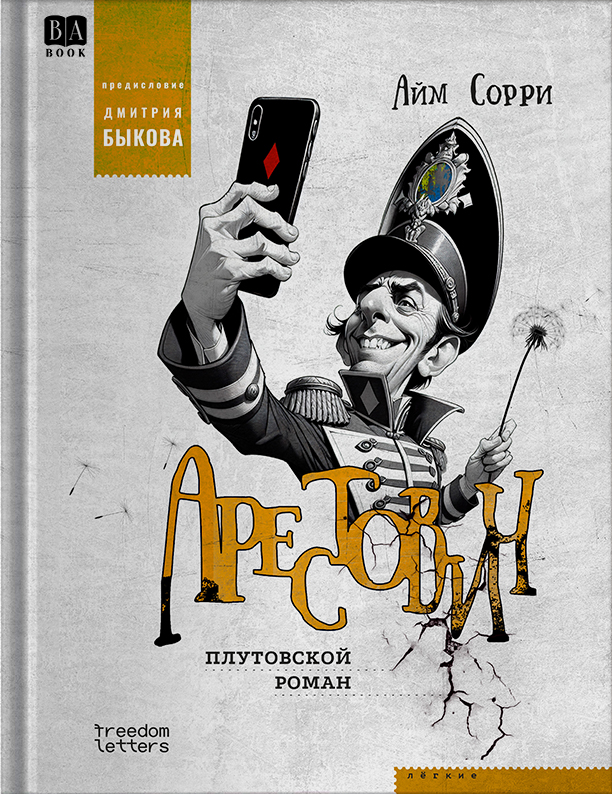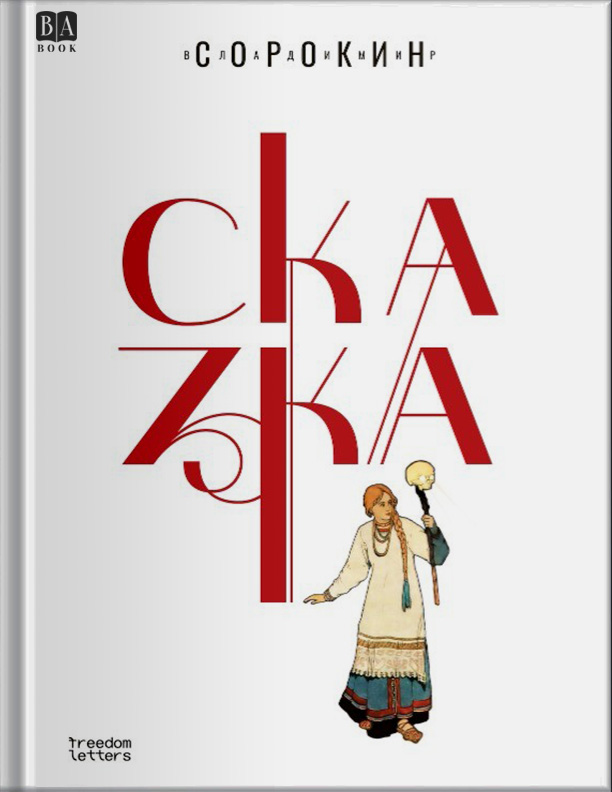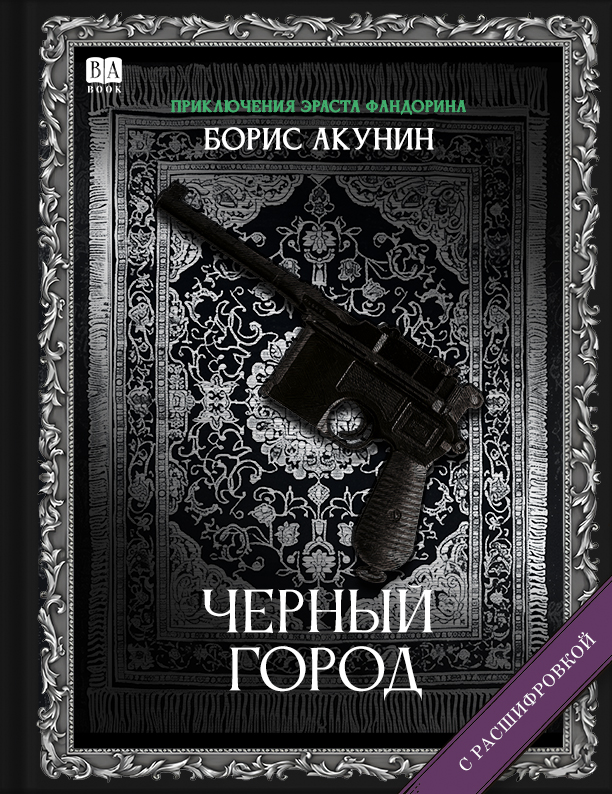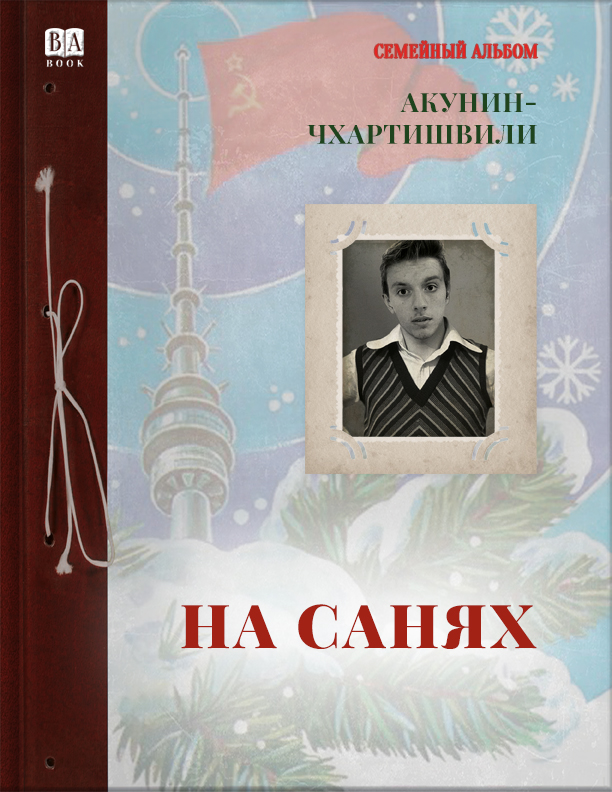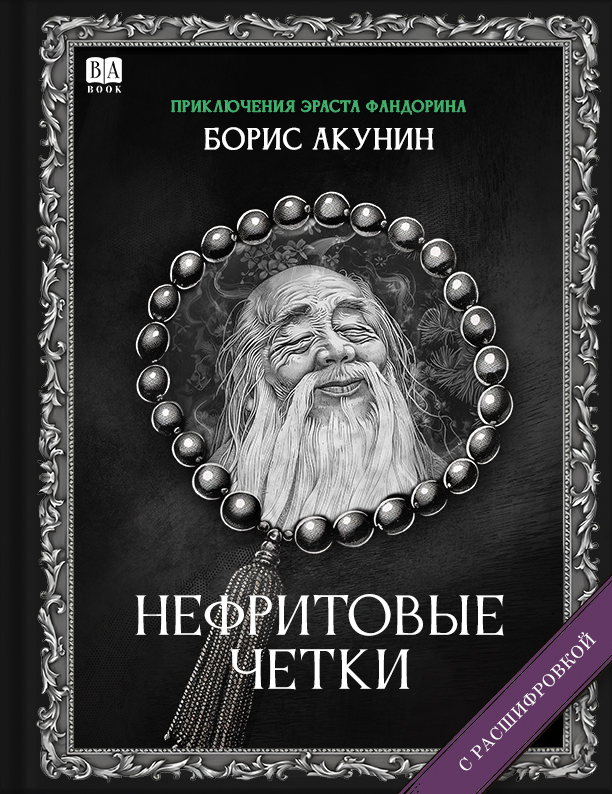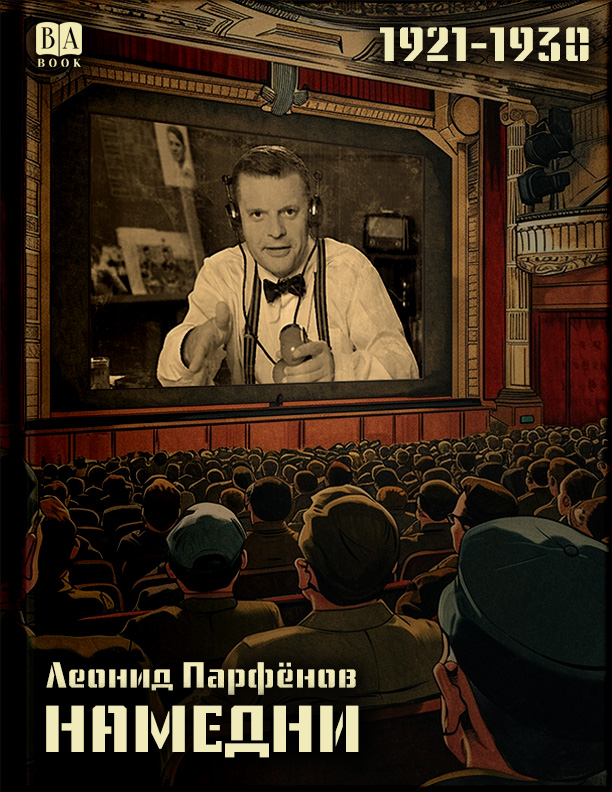Михаил Шишкин. «МОИ. Эссе о русской литературе»

Мой Пришвин
Я в плену у жизни и верчусь, как василек
на полевой дороге, приставший к грязному колесу нашей русской телеги.
Дневник, 1918
В школе в 4-м классе мы должны были читать «Кладовую солнца». Дома я зачитывался «Урфином Джюсом», «Незнайкой на Луне», романами Жюля Верна, и помню, что после этих книг от текста в школьной хрестоматии веяло невероятной скукой. Так я впервые столкнулся с прозой Пришвина. Он не умел писать для детей. Детским писателем он стал, чтобы спастись от «века-волкодава». Так назвал то время Осип Мандельштам, которому спастись было не суждено.
Писатель Михаил Пришвин сделал три литературных карьеры в трех разных эпохах. До революции, начав с этнографических рассказов, он примкнул к метафизическим поискам декадентов и прославился своими очерками о мужицких религиозных сектах. В СССР Пришвин стал классиком советской литературы как детский писатель и «певец природы». В постсоветский период он снова оказался на гребне литературной волны, открывшись читателю в 18-томном дневнике в совершенно ином свете как ненавистник большевиков и всяческих революций.
В молодости Пришвин переболел марксизмом и даже отсидел год в тюрьме. Вклад молодого марксиста в революцию заключался в основном в переводе книги Августа Бебеля «Женщина и социализм». Позже, в дневнике он признается, что его марксизм был не совсем «ортодоксальным»: «В тайне души своей я стал проповедовать марксизм, имея в виду грядущее царство будущей женщины. Нужны были стихи, нужны были дудочки, нужны были стихи для меня, и я ревел строго по Марксу, закону экономической необходимости, утаивая свою великую тайну: грядущий век царства женщин будущего» (здесь и далее цитаты приводятся по изданию Пришвин М.М. Дневники. 1905–1954 гг. в 18 томах).
Будущее наступило в 1917 году. В феврале русская интеллигенция одержала победу в вековой борьбе с царизмом. Россия была объявлена самой демократической страной в мире, например, русские женщины получили права, которые и не снились в то время женщинам на Западе. Но восторг очень скоро сменился разочарованием. В народном сознании демократия преломилась в слабую диктатуру. Вместо правового государства в Россию пришла мужицкая анархия.
Большевиков Пришвин воспринимал в 17 году как символ разрушения, как силу, подготовившую и возглавившую «русский бунт, бессмысленный и беспощадный», о котором предупреждал еще Пушкин. Главным врагом молодой русской демократии оказался не царизм, а сам народ, за освобождение которого боролась интеллигенция долгие годы. Большевистский переворот в октябре казался писателю окончательным поражением революции, концом государства, победой хаоса, разгромом культуры. Пришвин отчаянно сражался против наступающей тьмы в своих очерках, пока большевики не закрыли оппозиционные газеты. Писатель яростно публично нападал на Александра Блока за его статью «Интеллигенция и Революция», в которой знаменитый поэт призывал «слушать музыку революции». 31 октября 1917 года в газете «Воля народа» Пришвин опубликовал очерк о Ленине «Убивец!» Писателя арестовали, и он две недели провел в большевистской тюрьме.
Наступившую новую Смуту Пришвин надеялся переждать в деревне. Он родился в имении, которое мать после смерти отца продала за долги. Всю жизнь он пытался вернуться в этот утраченный рай: построить дом, жить на земле. Перед самой революцией он выкупил имение, в котором провел детство, построил там дом, но рай вернуть не получилось. Первая жена Пришвина вспоминала: «Однажды подкинули нам записку, что завтра придут имение громить и Михаила Михайловича убить собираются. Что делать? Решили, что надо ему на время скрыться. Вот он оделся во что похуже, взял в ладанку родной землицы, я его перекрестила на дорогу – и он ушёл. А вскоре нас в самом деле пришли громить».
До конца гражданской войны Пришвин с семьей спасался в глухих провинциальных городках, работая то библиотекарем, то учителем. Невозможность публиковаться он компенсировал записями в своем дневнике. До революции эти записи были «просто» разговором писателя с самим собой. Только там и тогда, где за слова убивают, дневник становится чем-то большим, чем дневник.
По записям за годы Смуты видно, как менялось его отношение к происходящему с Россией и к большевикам. И самые горькие выстраданные строки – о русском народе, о тех самых мужиках, ради которых делалась революция: «Дать волю мужику – это значит дать волю всё разрушить». Агроном по образованию, Пришвин писал о самом больном, о том, как рабское мужицкое сознание относится к земле и природе: «Я никогда не считал наш народ земледельческим, это один из великих предрассудков славянофилов, хорошо известный нашей технике агрономии: нет в мире более варварского обращения с животными, с орудием, с землей, чем у нас. Да им и некогда и негде было научиться земледелию на своих клочках, культура земледелия, как и армия царская, держалась исключительно помещиками и процветала только в их имениях. Теперь разогнали офицеров – и нет армии, разорили имения – и нет земледелия: весь народ, будто бы земледельческий, вернулся в свое первобытное состояние». Для Пришвина нет никаких иллюзий: мужик – враг самому себе, страна погибает, и ее гибель нужно любыми средствами остановить.
Невидное современникам очевидно для тех, кто смотрит на революцию с расстояния в целый век. Русская История использовала большевиков вслепую для восстановления порядка в стране, объятой «демократической» смутой. Им казалось, что они строят светлое коммунистическое будущее, но под марксистскими лозунгами коммунисты неосознанно восстанавливали империю. Рухнувшее в свободу государство возводилось заново единственным способом, известным русскому прошлому, – насилием и страхом. Страна возвращалась железной рукой из кровавого загула к порядку.
Пришвин остро чувствовал суть происходящих событий. Марксистская риторика узурпаторов нисколько не мешала ему ясно видеть, кого из себя представляет новая власть: «Русский народ создал, вероятно, единственную в истории коммуну воров и убийц под верховным руководством филистеров социализма». Но если в 1917 году большевики для него еще разрушители цивилизации, то уже в декабре 1918 он записывал: «Самое тяжкое в деревне для интеллигентного человека, что каким бы ни был он врагом большевиков – все-таки они ему в деревне самые близкие люди»). В этом объяснение победы марксистских фанатиков Ленина и Троцкого: на собственном чудовищном опыте люди приходили к выводу, что самая отвратительная власть в России лучше безвластия.
К началу 20-х годов в России смута завершилась, в стране окончательно восстановился новый порядок. Советскую власть приходилось принимать как данность. Стратегия выживания диктовала свою, накопленную в годы террора мудрость: «Как можно быть против! – записывает Пришвин в дневнике, – только безумный может стать под лавину и думать, что он ее остановит».
Большевики объявили НЭП, обескровленная страна вздохнула: разрешена частная торговля, открылись частные издательства. Пришвину казалось, что самое страшное уже позади, можно покинуть свое провинциальное убежище, где он пережидал исторические бури, и возвращаться в столицу и в литературу.
Он привез в Москву повесть «Мирская чаша» об испытанном и пережитом в гражданскую войну. Повесть была отклонена по цензурным соображениям. Пришвин написал самому Троцкому, только что выпустившему книгу «Литература и революция»: «Уважаемый Лев Давыдович, обращаюсь к Вам с большой просьбой прочитать посылаемую Вам при этом письме мою повесть. <…> За границей я ее печатать не хочу, так как в той обстановке она будет неверно понята, и весь смысл моего упорного безвыездного тяжкого бытия среди русского народа пропадет. Словом, вещь художественно-правдивая попадет в политику и контрреволюцию. Откладывать и сидеть мышью в ожидании лучших настроений – не могу больше. Вот я и выдумал обратиться к Вашему мужеству, да, советская власть должна иметь мужество дать существование целомудренно-эстетической повести, хотя бы она и колола глаза. <…> Примите привет моей блуждающей души. Михаил Пришвин».
Советская власть «проявила мужество» и ответ вождя был краток: «Признаю за вещью крупные художественные достоинства, но с политической точки зрения она сплошь контрреволюционна».
Чтобы публиковаться при новом режиме писатель должен был найти свою нишу. И он ее нашел: отсутствие людей придавало природе человечность. Пришвин стал «певцом природы». В дневнике он откровенен с самим собой: «Я ненавидел русское простонародное окаянство (орловское и великорусское), на которое русские эмигранты хотели надеть красную шапку социальной революции, и потому-то я любил Россию непомятых лугов, нетоптанных снегов…»
Непомятые луга и нетоптаные снега в отсутствие человека с его высокими идеями и кровавыми деяниями становятся на всю оставшуюся жизнь литературным заповедником Пришвина. В советскую литературу он вошел как автор очерков об охоте, собаках, болотах, нетронутой природе. Его ждал огромный успех. Пришвина публиковали все ведущие газеты и журналы страны. Для подданных режима с удушающей идеологией эти очерки были глотками чистого воздуха. И Пришвин прекрасно это понимал: «Пишу я о природе, а мои читатели хватаются за мои книги, как многие думают, чтобы забыться на стороне от мучительной действительности. Некоторые люди, мои недруги, говорят, что я обманом живу».
В своем дневнике Пришвин каждый день делал запись о погоде, дожде, снеге, сосульках. И чем мрачнее становилась окружавшая его действительность, тем важнее было писателю хвататься за «весну света», за эти сверкавшие на ярком солнце сосульки, как за спасательный круг. Так и его читатели хватались за пришвинские очерки в «Календаре природы» – его слова, проникнутые верой в чистоту и добро Божьего мира природы помогали выжить в человеческой тьме. Это был не обман. Это была отчаянная борьба за выживание человека в советском рабе. Природа стала единственной правдой в мире коммунистической лжи.
Писатель-эмигрант Алексей Ремизов писал о своем бывшем друге: «Пришвин, во все невзгоды и беды не покидавший Россию, первый писатель в России. И как это странно сейчас звучит этот голос из России, напоминая человеку с его горем и остервенением, что есть Божий мир, с цветами и звездами, и что недаром звери, когда-то тесно жившие с человеком, отпугнулись и боятся человека, но что есть еще в мире и простота, детскость и доверчивость – жив "человек"».
На «беленького» Пришвина набросились критики, блюстители идеологической чистоты советской литературы. Ему не могли простить его аполитичность. Выхода было только два: замолчать вовсе или начать писать для режима. К середине 20-х годов Пришвин уже принадлежал к элите новой литературы, печатался массовыми тиражами, получал огромные гонорары. Его писательство позволяло ему заниматься любимым делом – он охотился в лучших угодьях, путешествовал по всей стране. Молчание известного писателя было бы восстанием, бунтом против устоявшегося в стране режима. Эмиграция означала бы свободу, но нищету, потерю родины и читателя. Да и кто отпустил бы его за границу? Пришвин писал Горькому, жившему в это время полуэмигрантом в Италии: «Охота и писание и значат для меня свободу в полном смысле слова, деньги – как необходимость, слава – как условие получения денег, и только». Пришвин сделал выбор, следуя своему жизненному кредо: «Только безумный может стать под лавину и думать, что он ее остановит». В 1926 году он написал свой первый верноподданнический рассказ «Ленин на охоте». Кесарю кесарево.
Человеческим прибежищем для Пришвина был лес, писательским – дневник. В лесу, вдали от идеологии, было безопасно. 20 сентября 1926 он записывает: «Очень удобно романтику для самосохранения жить в стороне, наведываясь в "смешанное общество", но не оставаясь в нем долго, чтобы тебя не раскусили…» В лесу можно было быть самим собой. В интимном дневнике «советский писатель» Пришвин снова становился настоящим писателем, неспособным на компромиссы. Это была его единственная возможность не потерять себя в собственных глазах. Быть не советским, а настоящим. И этот честный дневник был главной опасностью для его жизни.
Он видел и записывал все. Ему выпало быть свидетелем «построения социализма в одной отдельно взятой стране», как подправил Сталин идею Маркса о всемирной пролетарской революции. Пришвинский дневник – летопись построения в этой стране сталинского ада.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ