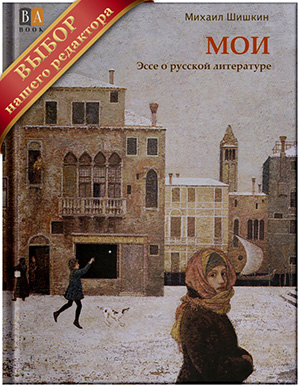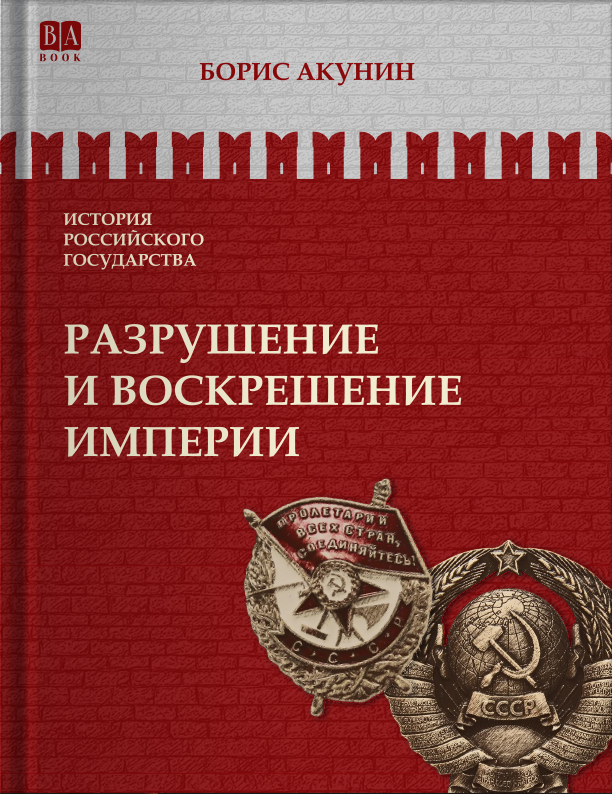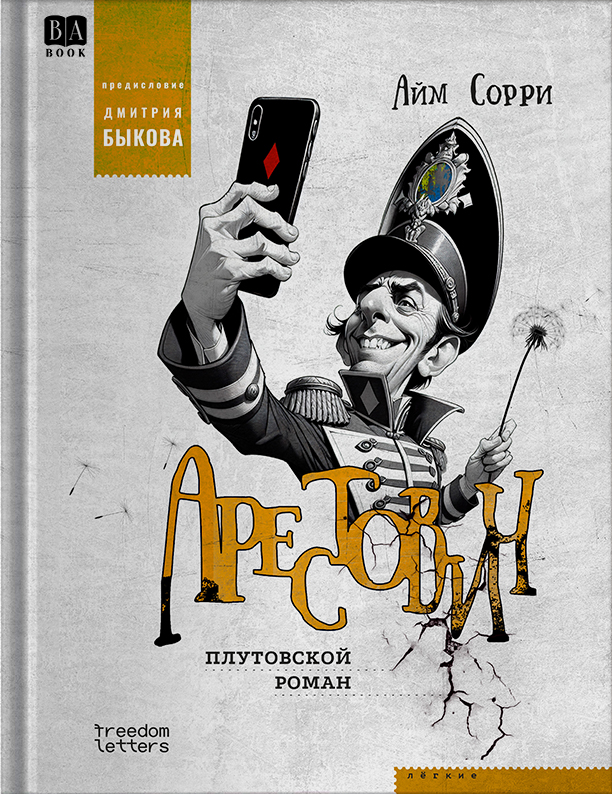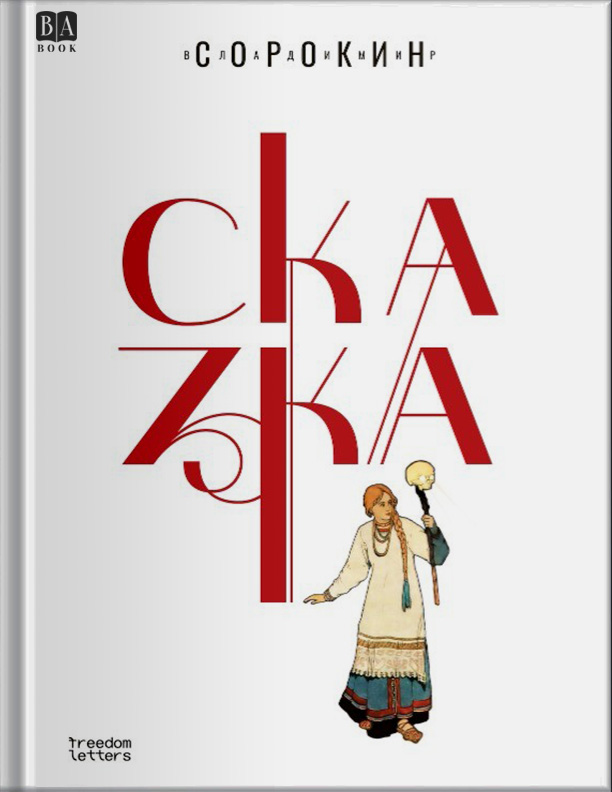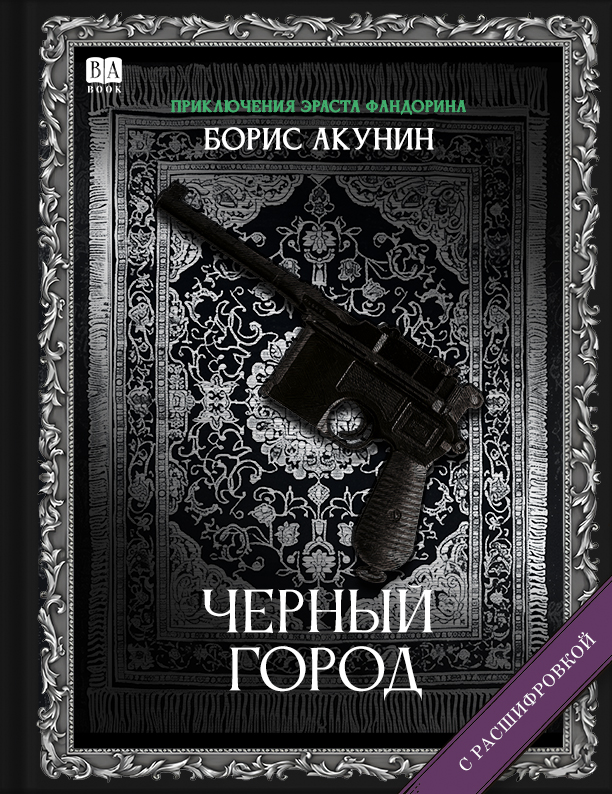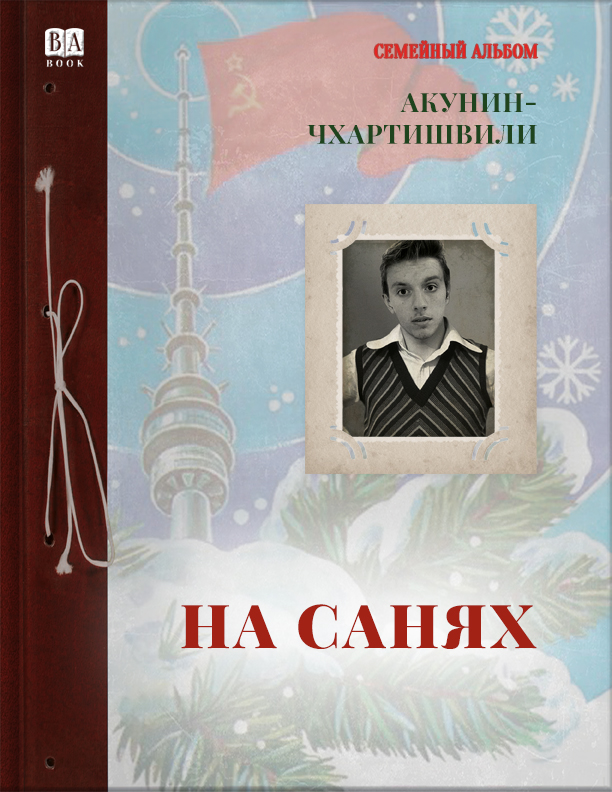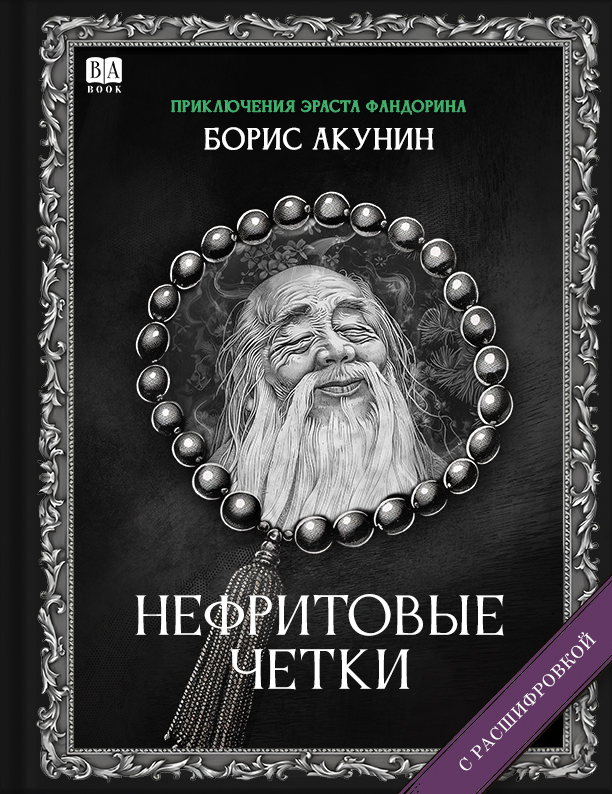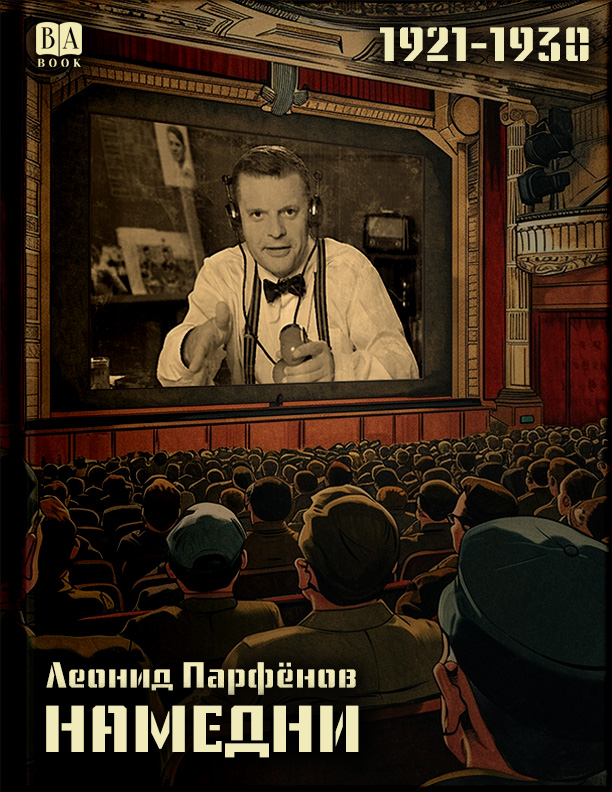Михаил Шишкин. «МОИ. Эссе о русской литературе»

Мой Чехов
Документальные кадры 1936 года: во МХАТе идет торжественное заседание, посвященное принятию новой конституции. Звучат здравицы: «Да здравствует великий Сталин!» В президиуме Станиславский, Чехов, Ольга Книппер-Чехова. Станиславскому 72 года, Чехову 76, его жене 68. Чехов поднимается на трибуну, обращается к гигантскому портрету на сцене: «Дорогой Иосиф Виссарионович!»
Обрыв пленки.
Страшно.
В Баденвайлере, где умер Чехов, не дожидаясь революции и остальных русских событий XX века, стоит памятник писателю. Может, нужно поставить рядом памятник его своевременной смерти?
* * *
В жизни он был против революций, но при этом совершил две: в русской прозе и на сцене.
После говорливого Достоевского и Толстого, который никак не мог упихнуть себя и в самые длинные предложения, Чехов объявил короткий рассказ субъектом словесного права. В тексте необходимо оставлять только самое важное, все лишнее отсекать – огородник, он знал, что для хорошего урожая нужно обрывать пустоцветы.
Недосказанность оставляет место для сотрудничества. Чехов создает своего читателя доверием. Лучше не договорить, чем все растолковывать. Из пассивного потребителя Чехов творит себе соавтора, без которого «чудо прозы» станет невозможным. Перед смертью последний свой текст Томас Манн посвятил Чехову. Автор монументальных фолиантов сокрушался, что так поздно открыл для себя его мастерство умолчания: «Он доверяет читателю, пусть тот сам восполнит отсутствующие в рассказе скрытые, "субъективные", то есть касающиеся авторского отношения к описываемому, элементы, сам догадается о том, какую моральную позицию занимает автор».
Автор – не судья героям, а свидетель, приговор выносит читающий. Пресловутое чеховское ружье, появившись в начале рассказа или пьесы, конечно, выстрелит, но на курок должен нажать читатель-зритель.
Чехов раскрыл заговор слов – они препятствуют пониманию. Любящие молчат, чтобы словами не поранить чувство. Описывая любовь, нельзя пользоваться словом «любовь». Затертые до дыр слова распугивают чувства. К передаче подлинных чувств необходимо пробиваться «неправильными» словами. Эти азы писательского мастерства принес в литературу Чехов.
О Чехове говорили, что его тексты лишены глубочайшего содержания, которое есть у Толстого, Достоевского. Зинаида Гиппиус о творчестве писателя: «Быт без бытия», мол, Чехов о земном, но не о бытийном.
Чеховские персонажи барахтаются в быту, но мучаются бытием. По замечательной формулировке Набокова, «все чеховские рассказы – это непрерывное спотыкание, но спотыкается в них человек, заглядевшийся на звезды».
Весь Чехов – о бытии, единственная форма существования которого – быт. Кровохарканье избавляет от иллюзии собственного бессмертия. За письменным столом с ним всегда была его смерть от чахотки. Все творчество Чехова о жизни в предощущении ухода. И поэтому, когда его персонажи говорят о ерунде – это внесловесные разговоры о самом важном, о человеческом предназначении, о выбранной судьбе, о потребности прожить оставшиеся годы с достоинством.
Со своим новым пониманием прозы Чехов пришел в другое искусство, работающее со словом, – театр.
Шекспир, полистав «Чайку» или «Три сестры», заявил бы, что автор ничего не понимает в драматургии. Эта нетеатральность «драматурга-неумехи» бросалась в глаза многим.
Набоков (из лекции о Чехове): «И еще я думаю, он был недостаточно знаком с искусством драматургии, не проштудировал должного количества пьес, был недостаточно взыскателен к себе в отношении некоторых технических приемов этого жанра».
Бунин (из письма Алданову): «Пьесы его мне всегда были почти ненавистны. Ах, Толстой, Толстой! В феврале 1897 г. он был в Птб. и сказал Суворину (дневник Суворина): "Чайка" Чехова вздор, ничего не стоящий… "Чайка" очень плоха… Лучшее в ней – монолог писателя, это автобиографические черты, но в драме они ни к селу, ни к городу».
Станиславский (из воспоминаний «А.П. Чехов в Художественном театре»): «К стыду своему, я не понимал пьесы».
Критики Чехова-драматурга превозносили дар писателя и при этом считали, что пьесы – это его короткие рассказы, неумело размазанные по сцене. Резонный вопрос: что было бы, если бы Набоков написал только голливудский сценарий для «Лолиты», но мир не знал бы самого романа? Мир остался бы без набоковского шедевра. Так были не написаны ни «Чайка», ни «Вишневый сад».
Конечно, Чехов мог бы написать пьесу «как полагается», но просто не видел в этом смысла: пятясь назад, художник перестает быть художником. А он был уже впереди, театр и зрители должны были догонять его. Чехову повезло: Московский художественный театр перенес его творческое know how из прозы на сцену, открыв дорогу искусству XX века.
В искусстве драматургии диалоги – способ продвижения сюжета, передачи информации, тело действия. Чеховские диалоги ни о чем, разговоры глухих – подземный ход в театр абсурда. Три сестры хотят в Москву, но никуда не едут, потому что ждут Годо. Открытие Чехова массовая культура будет пережевывать и через сто лет, называя это «тарантиновскими диалогами».
В прозе Чехова все важное выдавлено из слов, происходит между строк – в переводе на язык театра все важное оказалось выдавлено за сцену, вернее, в зрительный зал. На сцене – быт. В зрительном зале – бытие.
Кого удивляет, что в XXI веке по количеству театральных постановок в мире Чехов занимает второе место после Шекспира?
* * *
Звание русского писателя давалось общественностью за написание романа и за служение народу. От него ждали исполнения этих обязательств.
Маститые писатели настойчиво советовали юному таланту бросить «коротышки» и сесть за настоящую большую прозу. Чехову 27, он начинает роман и мучится над ним несколько лет. Признать поражение он долго не решается. В октябре 1888 он пишет мэтру Григоровичу: «Ведь если роман выйдет плох, то мое дело навсегда проиграно». Наконец, он принимает поражение как победу. Когда Чехов бросает саму идею романа, он становится самим собой. Планета читает рассказы Чехова и ничего не знает о романах Григоровича.
Неслужение народу Чехову не могли простить. Не только враги, но и друзья упрекали его в том, что он никуда не «зовет», не «ведет». Отсутствие «идейности» было серьезным обвинением для русской интеллигенции. В марте 1890 года газета «Русская мысль» называет Чехова «жрецом беспринципного писания». Его это больно задело.
Чехов пишет издателю «Русской мысли»: «Обвинение Ваше – клевета. Что после Вашего обвинения между нами невозможны не только деловые отношения, но даже обыкновенное шапочное знакомство, это само собой понятно». Чехова задело непонимание. Непонимание «передовой общественностью» того, что и зачем он пишет.
Он жил в обществе, в котором было стыдно жить хорошо, в накаленной атмосфере нравственного подвижничества. Нужны страдания, испытания. Нужно служение. Общество предъявило Чехову обвинение, и ему пришлось отвечать на понятном «прогрессивной интеллигенции» языке. Ему 30 лет. Он едет на край света к отверженным. Почему Сахалин? Это дно русской жизни. «Сахалин – это место невыносимых страданий, на какие только может быть способен человек».
«Прославленные шестидесятые годы не сделали ничего для больных и заключенных, нарушив таким образом главную заповедь христианской цивилизации». «Виноваты не смотрители, а все мы, но нам до этого дела нет, это неинтересно». Эта поездка – заявление, сделанное, как подобало русскому писателю: искусство отступает перед чувством вины перед народом, перед всеми страждущими и обездоленными. Грех «сытой и чистой» жизни надо искупить. Карьеры преуспевающего столичного литератора нужно было стыдиться.
Он не узнает о России ничего нового, и увиденное почти не оставит следов в прозе и пьесах. Главное последствие для его творчества – откроется кровохарканье. Поездка за 11 тысяч верст без железной дороги к погибающим и погибшим – послушание. «Сахалин» – книга не для чтения. И вообще не книга писателя – это исполнение данного обета. Ответ общественному обвинению. Охранная грамота. Оправдательный приговор самому себе.
Что думали, вспоминая описания «ужасов» царской каторги в «Сахалине» те, кто попал в ГУЛАГ через поколение? Что сказал бы Чехову «доходяга» Мандельштам перед смертью на пересылке?
* * *
Быт, не дающий прорасти бытию – Россия.
Очевидно, что свои мысли Чехов выразил устами доктора Астрова: «Вообще жизнь люблю, но нашу жизнь, уездную… обывательскую, терпеть не могу и презираю ее всеми силами своей души».
За надежду в русской литературе обычно отвечали неграмотный мужик, женщины и революционная интеллигенция. Вера в народ, русскую женщину и революцию на Чехове спотыкнулась.
С раннего детства он знал, как строится русская жизнь – на неправде, грубости, насилии. Это ранило и прошло через всю жизнь. У Чехова нет никаких иллюзий относительно «русского народа», обожествляемого интеллигенцией и революционерами, которые приносили себя в жертву ради его освобождения: «Наглость и безделье сильных, невежество и звероподобное состояние слабых, кругом страшная бедность, притеснение, вырождение, пьянство, ханжество, лживость…»
Татьяна Ларина, «тургеневские девушки», Сонечка Мармеладова не пахнут. Чеховские женщины пропахли русской жизнью. Он первым в русской литературе осмелился разрушить романтический образ женщины, почти цинично сбросил ее с пьедестала: «Анна на шее», «Володя большой и Володя маленький», «Припадок». Лев Шестов назвал его за реалистическое отношение к людям «беспощадным талантом».
Чехов одинаково презирал и власть, и рабов. «Россия – страна казённых. Мы переутомились от раболепства и лицемерия. Самолюбие и самомнение у нас европейские, а развитие и поступки – азиатские». Его диагноз медика: страна больна рабством в самой страшной его форме – рабством неосознанным. Рабство как фон, воздух. Рабство, пропитавшее и слова, и тело. Рабство как кожа – другой нет, в ней родились, в ней живем.
Самое страшное для Чехова в людях – детское невинное неумение различить добро и зло. Прекрасные молодые люди хотят освободить Россию и человечество от деспотизма, хотят принести народу свободу и добро – и бросают бомбы. Как малолетняя уставшая нянька душит ребенка в «Спать хочется», так Россия при строительстве счастливого светлого будущего придушит потом в ГУЛАГе миллионы своих детей. А до этого, узнав про убийство царской семьи, поэтесса Зинаида Гиппиус напишет в дневнике: «Серенького полковника не жалко».
Рассказ «Палата № 6», опубликованный в 1892 году, произвел угнетающее впечатление. Наверно, каждый читающий ощутил себя запертым в бескрайней камере. Приговор Лескова: «Палата № 6 – это Россия, это Русь!» Лесков умер в 1895 году. Рассказ «В овраге» был опубликован в 1899. Несомненно, прочитав этот текст, Лесков уточнил бы свое высказывание.
«В овраге» люди не знают разницы между добром и злом, правдой и неправдой, преступниками и полицией, родными и врагами. Там не мучатся угрызениями совести, ходят в церковь, но не знают сострадания. Слабого нужно добить, уничтожить. Нет ближних, вернее, ближние и есть самые враги, а для выживания среди врагов все оправдано. Так построен мир в русском овраге – на праве сильного. Лейтмотив рассказа «все пропитались неправдой». Здесь живут люди, пропитанные неправдой. Русские люди испорчены, развращены этой жизнью, готовы на любое зло. Село Уклеево – символ чеховской России. Только чеховской?
«В овраге» живут еще не ставшие людьми люди, которых не должно быть, но они есть, страна, которой не должно быть, но она есть, зло, которого не должно быть, но оно есть. Россия в овраге. Никто никому не нужен. Если их, не познавших человечность, кто-то и жалеет, то только автор.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ