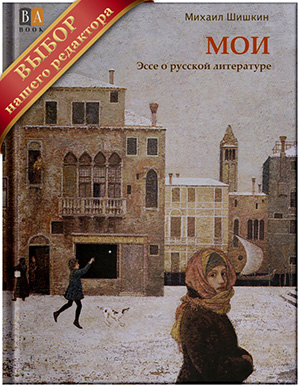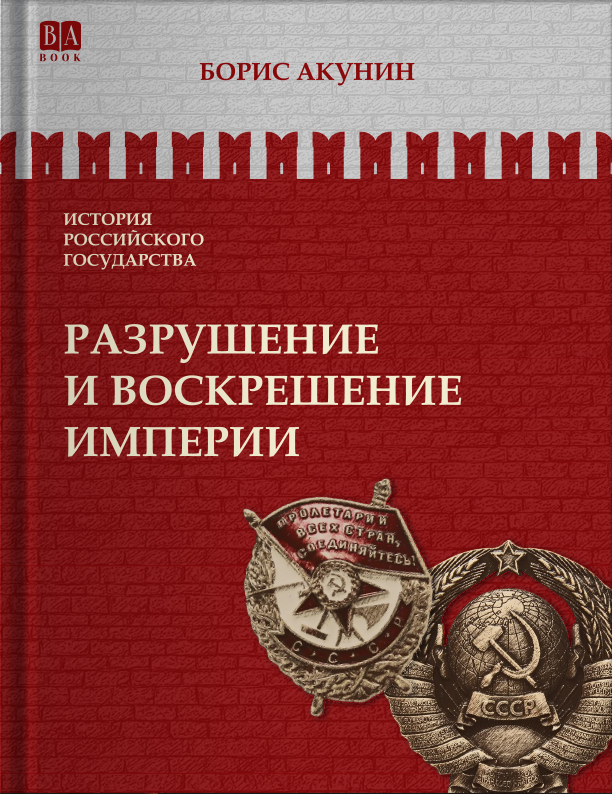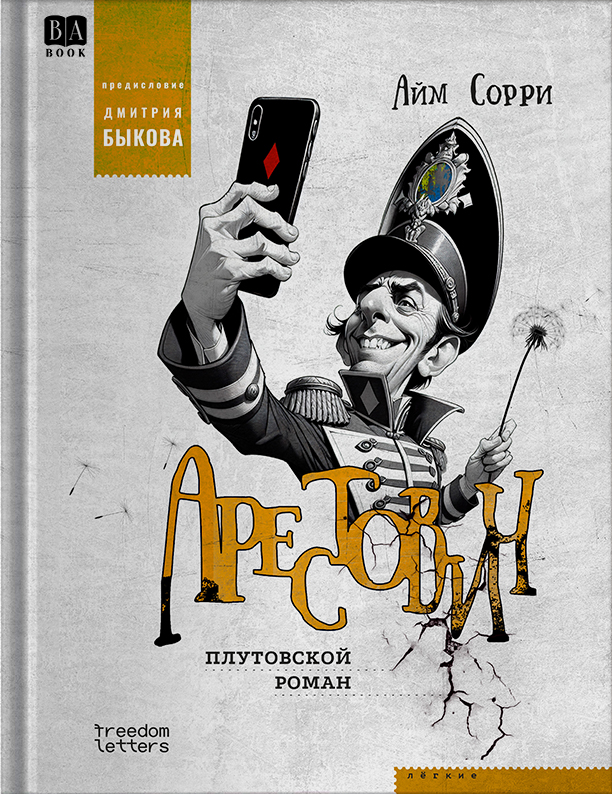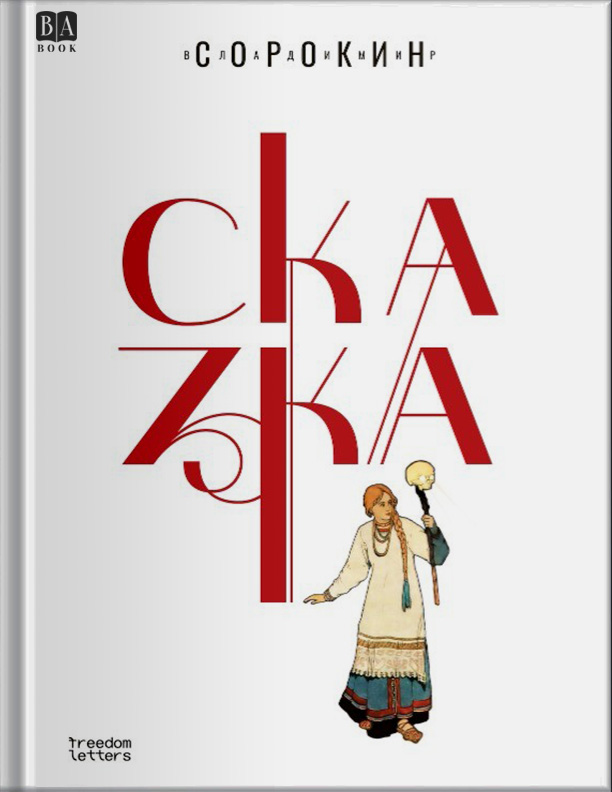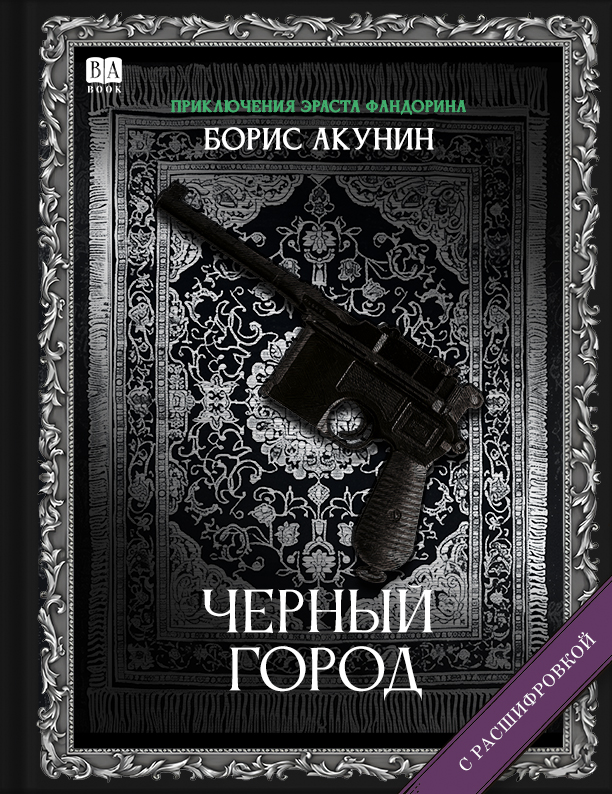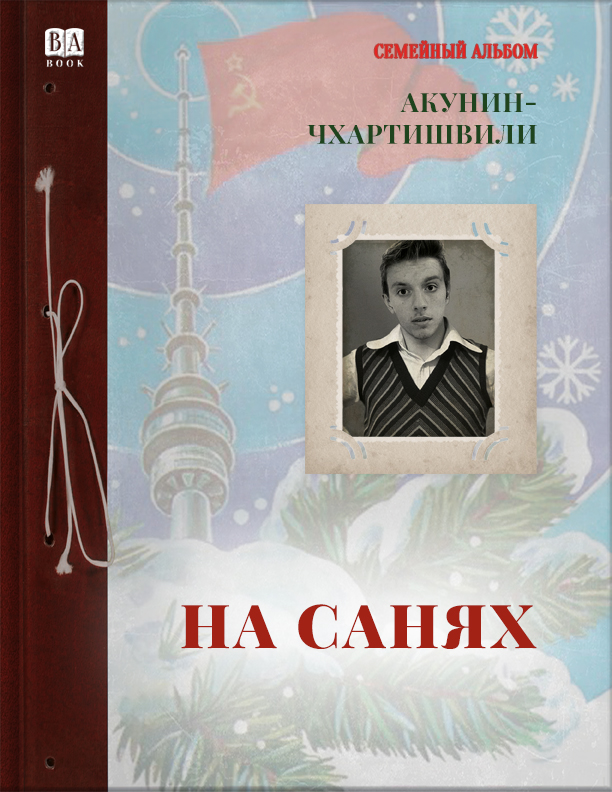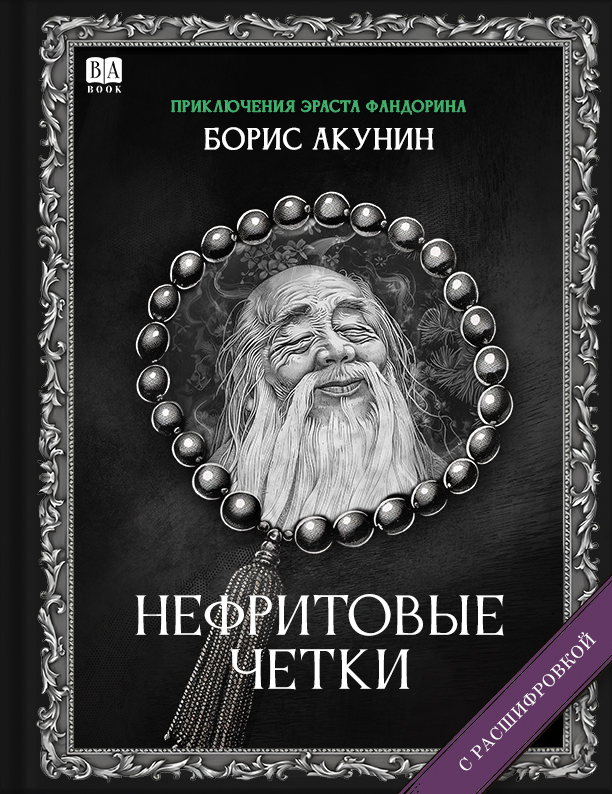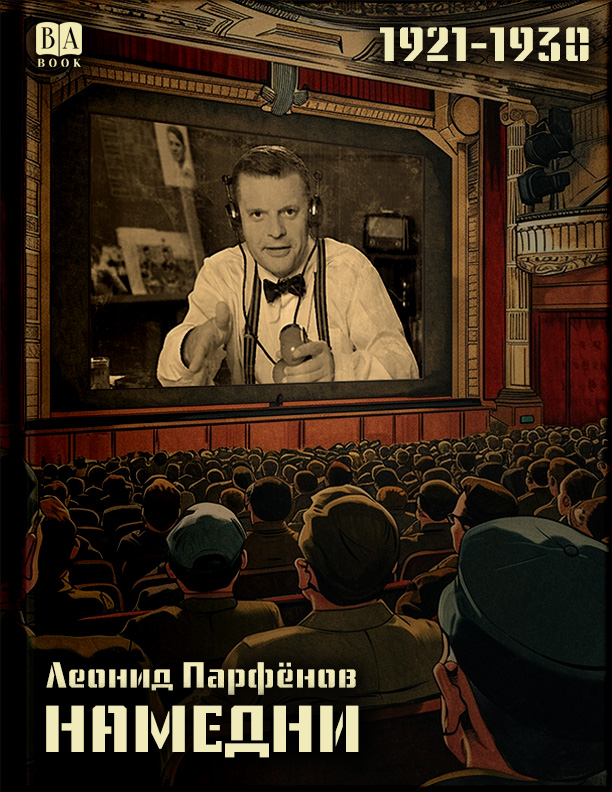Михаил Шишкин. «МОИ. Эссе о русской литературе»
Дорогие читатели!
Мы продолжаем публиковать книгу Михаила Павловича Шишкина «МОИ. Эссе о русской литературе». Книга будет публиковаться долго, почти 3 недели. Напомним, что эту рубрику мы специально сделали для российских читателей, которые лишены возможности покупать хорошие книжки хороших авторов. Приходите каждый день, читайте небольшими порциями совершенно бесплатно. А у кого есть возможность купить книгу полностью – вам повезло больше, потому что вы можете купить эту книгу еще и в бумажном виде!
Читайте, оставляйте восторженные комментарии!
Редакция Книжного клуба Бабук

Мой Пушкин
ПРОДОЛЖЕНИЕ
Пойдя за коммунистами в начале XX века, русские отказались от Христа, но «сбросить Пушкина с парохода современности», как призывали революционные поэты, оказалось невозможно. Здесь рука была поднята на действительно святое.
В России произошло именно то, чего боялся и что предвидел зрелый Пушкин. Страна рухнула в свободу, обернувшуюся кровавым хаосом. Первым делом заполыхали библиотеки. И для возвращения порядка понадобилась невиданная по жестокости диктатура.
Со времен Пушкина и Николая I земному царю уже недостаточно быть помазанником Божьим, власть правителя еще должна быть освящена и литературой, второй русской властью, именно поэтому при Сталине режим так заботился об увековечивании памяти русских классиков. Если православные цари основывали право владеть телами и душами своих подданных законами неба, то коммунисты легитимировали диктатуру партии «научными» тезисами: «Учение Маркса всесильно, потому что оно верно». Однако по-настоящему «освятить» власть в России могли только поэты и писатели. Устанавливая везде памятники классикам, тюремное государство стремилось показать себя праведным. Своими мраморными изваяниями классики символически поддерживали превращение всей страны в ГУЛАГ. Ритуальное поклонение великим гуманистам отбрасывало отсвет гуманности и на сам режим.
Всенародный лагерь пытался путем поклонения Пушкину получить от него «духовную» легитимацию.
В 1937 году трясущиеся от страха вожди заявили со всех юбилейных трибун: «Был вашим, стал нашим!» Патриотический треск вокруг Пушкина, поднятый по указу политбюро, должен был заглушать треск расстрелов. Кто сомневается, что «наше все» пошло бы по 58-й вместе с Толстым, Достоевским и другими, доживи они, по делу о каком-нибудь «заговоре классиков»? И их тексты исчезли бы для страны, как исчезли тексты Бунина, Мандельштама, Бабеля, Платонова.
Какой-то злобный Дионис дал русской власти способность превращать все, к чему она прикоснется, в такое же смердящее, как она сама. Калининская областная газета «Пролетарская правда»: «18 февраля – день погребения Пушкина – будет ознаменовано в Пушкинском районе большими торжествами. Из Москвы, Ленинграда, со всех концов страны сюда приедут делегации рабочих, колхозников, красноармейцев, научных работников. <…> Перед домом поэта будет проведен митинг, в котором примут участие приехавшие в Пушкинские Горы делегации и колхозники, которые съедутся на торжества со всего района. Около двух часов будет открыт парад-карнавал. Все участники карнавала будут одеты в костюмы пушкинских героев. <…>
15 февраля было созвано совещание самых старых колхозников-пушкинистов, на котором еще раз была продемонстрирована огромная любовь советского народа к своему любимому поэту. Станция "Тригорское", дома́ в поселке Пушкинские Горы и избы окрестных колхозников украшены зеленью, гирляндами хвои, красными полотнищами, портретами Пушкина. Всюду – щиты с цитатами из трудов товарищей Ленина и Сталина об освоении культурного наследства прошлого, с выдержками из пушкинских стихов».
Как выглядел пушкинский «парад-карнавал», вспоминал Виктор Шкловский: «Зимой в 1937 году вместе с другими товарищами поехал я на пушкинские торжества в село Михайловское. <…> Колхозники устроили маскарад на льду. Проходила Татьяна Ларина, надевшая ампирное платье на тулуп. Шли богатыри, царица-лебедь, в кибитке ехал с синей лентой через плечо бородатый крестьянин Емельян Пугачев, рядом с ним ехала сирота Маша Миронова – капитанская дочка. И за ними на тачанке, гремящей бубенцами, с Петькой ехал, командуя пулеметом, Чапаев. Я спросил устроителя шествия – ведь про Чапаева Пушкин не писал? – А для нас это все одно, – ответил мне колхозник».
Убитого на дуэли поэта добивали штампами и советской пошлостью. Власть задушила население казенной любовью к «нашему всему», население ответило анекдотами и знаменитой идиомой, впервые записанной Булгаковым в «Мастере и Маргарите»: «Никанор Иванович до своего сна совершенно не знал произведений поэта Пушкина, но самого его знал прекрасно и ежедневно по нескольку раз произносил фразы вроде: "А за квартиру Пушкин платить будет?" Или "Лампочку на лестнице, стало быть, Пушкин вывинтил?"»
Пушкин из Хармса – карикатура на поэта или на смердящую идеологию? Хармс вступился за Пушкина, написав пародию на образ, возникший в массовом народном сознании по приказу славословить Пушкина как нерукотворное начальство.
И все же для замордованной страны Пушкин оставался тайным культом свободы. В мире есть свобода и несвобода. В русском мире есть еще тайная свобода. Ее сформулировал в своей пушкинской речи за несколько месяцев до мучительной смерти Александр Блок, проклявший «Двенадцать» и безуспешно пытавшийся вырваться от советской «черни» в Европу. Ничего, кроме тайной свободы, в России не оставалось. О том, что пушкинское имя станет тайным кодом в надвигающемся варварстве, говорил тогда же в феврале 1921 года и Ходасевич: «И наше желание сделать день смерти Пушкина днем всенародного празднования отчасти, мне думается, подсказано тем же предчувствием: это мы уславливаемся, каким именем нам аукаться, как нам перекликаться в надвигающемся мракe».
Поколения перекликались Пушкиным. В мире бесконечной лжи, битком набитом словесной трухой, страхом, пошлостью, унижениями, Пушкин оставался настоящим. Наши школьные учителя литературы учили нас спасительному двоемыслию, что можно говорить, а что только думать, они преподавали нам уроки выживания: кесарю кесарево, а детям – Пушкина. Именно этот Пушкин стал нашим всем. Пушкина нельзя выбрать, чтобы полюбить. Он приходит изначально, с родителями, снегом, звездами, сказками. Каждое русское детство – в горсти у Пушкина.
Официальная канонизация сверху совпала с канонизацией снизу. Пушкин был лагерным тайным культом свободы, поощряемым начальством зоны. Жизнь его стала житием. Стихи его целебны для души – так раньше лечились прикосновением к святым мощам.
Объясняя, почему Пушкин «наше все», по привычке долдонят,
что он создал современный русский литературный язык, что он стал писать просто и понятно. Но это миф. Язык после Пушкина менялся стремительно. Разница в языке между нами и языком Пушкина значительнее, чем между языком Пушкина и его предшественников. Школьники не понимают в «Евгении Онегине» и половины слов. Но именно это делает язык Пушкина сакральным. Как в храме в церковнославянском языке важно не столько понимание, сколько нездешнее возвышенное звучание и вера в божественность, так именно в нездешности языка «Евгения Онегина» кроется его притягательность и тайна.
Красное словцо «Пушкин – наше все» кажется бессмысленным на первый взгляд, поскольку неясно, кто эти «мы», но именно эта формула уже давно определяет русскую культурную парадигму. Пушкин связывает собой русский мир. Абсолютно все: западники и славянофилы, патриоты и нацпредатели, друзья и враги, пропойцы и коллекционеры градусников – считают Пушкина своим.
Исторические аватарки в России меняются – то «православие, самодержавие, народность», то «за родину, за Сталина», то «управляемая демократия», но пользователь остается прежний. Московский улус Золотой орды, возомнивший себя Третьим Римом. Время от времени происходит историческая линька. Слова, как шерсть, выпадают, вырастают новые, но на обмен веществ в организме это никак не влияет.
Новая Россия, «поднявшаяся с колен» – это особая, языковая империя. Придуманный генштабом «русский мир» ничего, кроме русского языка, не объединяет. Поэтому снова они ухватились за «наше все». «Борец с самодержавием» в официальной пропаганде превратился в «друга монархии», на него наряжают имперские доспехи
и пихают на геополитическую передовую. Его бюсты расставляют как знаки – здесь власть имперского сапога.
Поэт остается основной массой населения непрочитанным, непрочувствованным и непонятым. Можно вызубрить в школе: «Пока свободою горим, пока сердца для чести живы…» – и потом всю жизнь прислуживать бандитскому начальству. Как объяснить юным читательницам, почему Татьяна отвергла любовь Онегина, если хит продаж – «Дневник по соблазнению миллиардера»? «Паситесь, мирные народы! Вас не разбудит чести клич, – повторяют мирные народы из поколения в поколение. – К чему стадам дары свободы? Их должно резать или стричь. Наследство их из рода в роды Ярмо с гремушками да бич», – и пасутся дальше, лаская свой слух гремушками и гордясь мощью хозяйского бича. И идут на заклание.
Когда Борису Пастернаку в тридцатые годы принесли на подпись письмо с требованием расстрела «врагов народа», беременная жена валялась у него в ногах, умоляя, чтобы он подписал – ради ребенка. Он сказал: «Если я подпишу, я буду другим человеком. А судьба ребенка от другого человека меня не волнует».
Это не героизм, это что-то другое. Невозможность перестать быть собой.
Каждый отвечает себе самому на вопрос: выходить ли на площадь без надежды на победу?
«Семь человек на Красной площади – это, по крайней мере, семь причин, по которым мы уже никогда не сможем ненавидеть русских», – написал один чешский журналист о демонстрантах 68-года. В тот августовский день они шли к Лобному месту защитить свою честь. Они вышли на площадь и погубили свои жизни потому, что у них не было иной возможности защитить чувство собственного достоинства.
От Черной речки протянута нить до Лобного места и ведет дальше – через колонию «Полярный волк» в Харпе – в будущее.